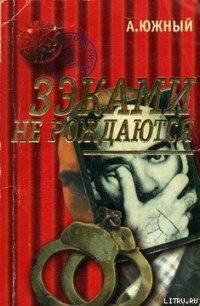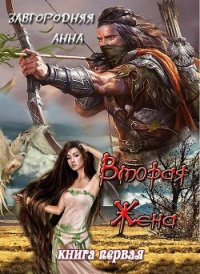Фабрика безумия - Сас Томас (книги TXT) 📗
Наша же современная психиатрически просвещенная (так ее, по крайней мере, называют) криминология не обнаруживает ни малейшей склонности к самокритике. Вместо этого она избирает для себя позицию снисходительной благонамеренности и праведного патернализма [761]. Бэзелон утверждает, что он и его коллеги-единомышленники в юриспруденции и психиатрии все как один «обеспокоены практикой наказания людей, страдающих от душевных и эмоциональных расстройств» [762]. Это чистая риторика. Будь эти слова правдой, пришлось бы отстаивать упразднение принудительной психиатрической госпитализации. Для того, кто ей подвергается, того, кто только и может быть в этом вопросе единственным арбитром, такая госпитализация — форма наказания. Но ничего подобного не делается. Напротив, прилежно создается все больше и больше сумасшедших, все больше и больше индивидов перемещается из тюрем, где заключенные отбывают назначенные сроки, в сумасшедшие дома, где люди находятся бессрочно.
Искренне веруя в то, что «существует общее согласие среди ученых насчет скорее вынужденного, нежели добровольного характера, человеческого поведения» [763], Бэзелон полагает, что он разрешил проблему юстиции: все, что нужно, — это больше «научных данных» о подсудимом. В этом Новом Иерусалиме Фемида носит не черную повязку беспристрастности, но розовые очки психологического добросердечия.
От [психиатрических] экспертов обыкновенно требуют, — объясняет Бэзелон, — выраженного в простых словах заключения: почему обвиняемый поступил так, как он поступил, то есть требуют изложить психодинамику его поведения. Когда это сделано, то, согласно правилу Дархэма [которое ввел в судебную практику сам Бэзелон], обвиняемый может рассматриваться как больной человек и помещаться в больницу для лечения, а не в тюрьму для наказания [764].
Проблема вот в чем: чем больше мы рассуждаем в зале суда о «психодинамике» обвиняемого, тем больше мы начинаем верить в то, что он — «пациент», нуждающийся в лечении. Не признаваемая открыто цель и безусловный практический результат этой практики состоит в том, что участие иных лиц, помимо обвиняемого, в фабрикации отклонения затушевывается. Например, если мы считаем гомосексуалистов или наркоманов душевнобольными, мы не станем испытывать беспокойства по поводу роли законодателей, запретивших прием определенных препаратов или участие в определенных видах сексуальной активности, или по поводу роли прокуроров, предпочитающих объявление подсудимых сумасшедшими вместо рассмотрения их дела в зале суда, или же по поводу роли судей, которые предпочитают «понимание» обвиняемых пониманию самих себя [765].
Развязка такова: «психодинамически ориентированный» судья, который судит душевнобольных нарушителей, рассуждает в терминах, полностью аналогичных терминологии религиозно ориентированного судьи, судившего еретиков. Судья XVI века вдохновлялся идеологией христианства и судил, пользуясь риторикой спасения. Его современный преемник вдохновлен идеологией медицины и пользуется риторикой лечения. «Глубокое расследование уголовной ответственности подсудимого... можно сравнить с посмертной медэкспертизой, — пишет Бэзелон. — Посмертная экспертиза не вернет мертвого к жизни, а суд не может отменить гнусное деяние. Но в обоих случаях мы, по крайней мере, установим причины» [766].
Ничто так не выдает ревнителя медицины, как этот неподражаемый стиль: суд — это морг, судья — патологоанатом, обвиняемый — труп! Однако посмертная экспертиза не имеет своей целью вернуть умершего к жизни. И от суда не ожидают отмены преступного деяния. В первом случае патологоанатом может или не может установить, от чего умер пациент, во втором — жюри присяжных сумеет или не сумеет определить, виновен ли обвиняемый. Но даже эта параллель вводит нас в заблуждение, поскольку скрывает решающее различие между исследуемыми «объектами»: при патологоанатомическом исследовании изучается мертвое тело, в суде — живое человеческое существо. Именно здесь и может обмануться беспечный: мертвому, которого разрезают в морге на части, не важно, насколько честен или коррумпирован, компетентен или невежествен, любопытен или безразличен патологоанатом. Совсем иначе дело обстоит для подсудимого в зале суда: для него имеет значение, представляющее иногда вопрос жизни и смерти, как ведут себя адвокат, прокурор, судья, присяжные и свидетели. В самом деле, итоги слушаний по уголовному делу часто в большей степени зависят от этих dramatis personae [767], чем от самого подсудимого. Макнейтен и Дархэм были признаны душевнобольными не потому, что были «больны», а потому, что судившие их желали, чтобы их объявили таковыми. Вот так просто это и происходит [768].
Развивая свою метафору, Бэзелон все больше запутывается в ней: «...в процессе суда все общество, следовательно, может научиться более ясно понимать свою ответственность за деяние и за спасение [769] [sic!] содеявшего» [770]- Здесь аналогия между моргом и залом суда, посмертным вскрытием и слушаниями по уголовному делу, патологоанатомом и общественностью разрывается полностью. Патологоанатом действительно обычно стремится «научиться». Однако этого не желают ни адвокат защиты, ни прокурор, ни присяжные или общественность — все они хотят или признать человека виновным, или оправдать его.
Наконец, говоря о «спасении» подсудимого, Бэзелон окончательно раскрывает свои карты: он рассматривает обвиняемого как своего рода еретика, который нуждается в «спасении». Это слово вновь указывает на то, что мы имеем дело с откровенным рецидивом риторики крестоносцев и судов над ведьмами. Остается гадать, каким образом Бэзелон «спасал» бы таких нарушителей закона, как Ганди, Неру или Торо, не говоря уже об Иисусе и Сократе. Но Бэзелон ни на миг не допускает, что подсудимый может оказаться более человечным или более справедливым, нежели его обвинители и судьи. В своем отказе признать в подсудимом то, что он личность, обладающая равным судье человеческим достоинством, которого тот может и обязан судить, но которого тот не может и не должен переделывать по своему образу и подобию, Бэзелон выдает свою приверженность коллективистскому и патерналистскому общественному строю, в котором послушание синонимично душевному здоровью и при котором Государство — брат, отец, друг, терапевт гражданина — все, что угодно, только не его противник. Иными словами, Бэзелон видит в себе Добросовестного Человека, а в обвиняемом — Другого, чужака.
В этой главе я старался показать, как институциональная психиатрия закладывает основы общественной системы, функция которой создать определенные виды медицинских стигм и навязать их определенным людям. Современная американская психиатрия, как мы уже отвечали, есть нечто большее, чем простая институциональная психиатрия. Это справедливо, однако, только с первых десятилетий XX века. Повсюду в других странах институциональная психиатрия — все еще един-ственный существующий вид психиатрической практики. И даже в Соединенных Штатах влияние и значение институциональной психиатрии превосходит (в экономическом, правовом, политическом и общественном отношении) влияние и значение договорной или частной психиатрии.
Недавний общенациональный опрос 15 200 практикующих психиатров в Соединенных Штатах показал, что «вопреки преобладающему представлению, будто подавляющее большинство психиатров тратит практически все свое время на частный прием в своих кабинетах, на самом деле более трети психиатров не имеют вовсе никакой частной практики» [771]. Действительно, лишь чуть более половины американских психиатров ведут частный прием. 60 процентов проводят на такой работе менее 35 часов в неделю. Из всех психиатров 39 процентов какое-то время работают на правительства своих штатов, 34 процента — для частных организаций и учреждений, 19 процентов — на федеральное правительство и 15 процентов — на местное правительство [772]. (Некоторые работают на несколько агентств.) Эти цифры показывают чрезвычайную экономическую зависимость психиатров от институционального найма. В других странах Запада, где экономические возможности и общественный запрос на частные психиатрические услуги существенно ниже, чем в Соединенных Штатах, доля психиатров, работающих в психиатрических и других учреждениях, еще выше. Например, в Великобритании только 4,5 процента психиатров более половины рабочего времени тратят на частную практику, 69 процентов полный рабочий день заняты в национальной службе здравоохранения, а 77 процентов по меньшей мере часть своего времени проводят, работая с помещенными в сумасшедшие дома (в США этот показатель составляет лишь 51 процент) [773]. Конечно же, в коммунистических странах вся психиатрия — институциональная.