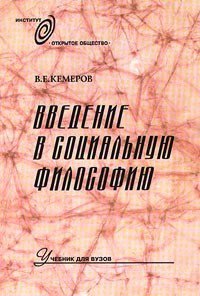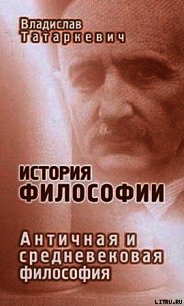Непостижимое - Франк Семен (бесплатная регистрация книга .TXT) 📗
Но это имеет силу и в отношении того отрезка безусловного бытия, который предстоит нам как «действительность» или «мир». Мы много говорили – и нам еще придется говорить – о несовершенстве «мира», о тех его сторонах, в которых он не удовлетворяет требованию внутренней самоочевидности и убедительности, а выступает, напротив, как некая темная, непонятная, жуткая реальность грубой фактичности. Это не должно нам, однако, препятствовать видеть и обратную сторону, которая так явственно бросалась в глаза античному и средневековому сознанию и восприятие которой было в значительной мере неправомерно утрачено в новое время. И мировая действительность – «космос» – не есть просто и только слепая, хаотическая, дисгармоническая сила. Космос несет на себе также следы единства, внутренней гармонии, органической и, тем самым, телеологической сопринадлежности и связи частей между собой; об этом свидетельствует, как мы видели, уже его «красота». Во всем этом он есть отображение и символ абсолютного единства и осмысленности Божества. Об этом нам придется говорить еще далее.
Но и в пределах бытия как целого и мира как целого все в каком-то смысле подобно Божеству. Правда, не все в одинаковой мере. На этом основан глубокий смысл метода аналогии – analogia entis – как он впервые выражен Дионисием Ареопагитом и систематически развит Фомой Аквинским. Все сущее оказывается в меру достигаемой им глубины, т. е. в меру близости к Божеству рода или образа его бытия, построенным в иерархическом порядке. Все сущее есть символ Божества и приближается в различной мере к тому, что им символизируется или знаменуется, в различной мере ему адекватно, – несмотря на то, что все сущее остается безусловно неадекватным Божеству в отрешенной «инаковости» последнего. При проведении этой мысли надо одинаково избегать двух крайностей: высокомерного, безлюбовного онтологического аристократизма, для которого одно только высшее, высокородное достойно чести быть отображением Божества, тогда как все низшее есть лишь слепой, лишенный смысла материал бытия, – и вульгарно онтологического демократизма, отрицающего всякий иерархизм бытия и в идее эволюционизма практически низводящего высшее на уровень низшего. Иерархизм должен, напротив, согласоваться со всеединством, сопринадлежностью, внутренней солидарностью и некой общей однородностью (в смысле общности происхождения) всего сущего. С этой оговоркой идея иерархизма имеет общее значение. Мы уже видели, что мир нашей внутренней жизни в известном смысле по самому существу дела ближе к первооснованию – к Божеству, – чем мир предметного бытия. Расширяя теперь это указание, мы можем сказать: область духовного бытия и человек как его представитель и носитель в мире, т. е. как личность, стоит ближе всего к Божеству; мир непосредственного самобытия ближе к нему, чем бытие космическое; разумное – ближе, чем неразумное и бессмысленное, живое ближе, чем мертвое, добро ближе, чем зло. В различной мере непостижимое и несказанное Божество просвечивает сквозь все сущее – и все же остается перед лицом всего сущего [127] чем-то безусловно «иным».
Таким образом, безусловно непостижимое существо Божества становится нам все же доступным и со стороны его сущностного отношения ко всему остальному – и притом без того, чтобы мы постигли это существо, проникли в него, а, напротив, именно во всей его непостижимости, вокруг которой мы при этом только умственно кружимся. «Attingitur inattingibile inattingibiliter» (Николай Кузанский): недостижимое достигается именно через посредство его недостижения. Мы достигаем его, потому что, сияя в бесконечной, недостижимой дали, оно просвечивает в ближайшей близи от нас во всем видимом и знакомом и тем становится уловимым именно в качестве бесконечно удаленного и недостижимого, – имеет, именно в качестве «совершенно иного», свое подобие во всем без исключения. Как однажды метко сказал Толстой: «Мы знаем Бога, как непробудившееся еще к полному сознанию новорожденное дитя знает мать, на руках которой оно покоится и теплоту которой оно чувствует». Или, чтобы воспользоваться более авторитетным словом: мы видим Бога «зерцалом в гадании». [128]
Но этим мы уже приблизились к третьему пути умственного кружения вокруг безусловно непостижимого – к осознанию форм его реального обнаружения и действия во всем остальном. Все пути умственного кружения здесь именно скрещиваются и взаимно соприкасаются. Но это последнее осознание может быть лучше всего систематически развито в двух отдельных размышлениях – об отношении Божества ко мне и об его отношении к миру.
Глава IX
БОГ И Я
1. Божество как «ты»
Обращаясь теперь к размышлению о реальном отношении между «Святыней» (или «Божеством») и всем остальным, мы тотчас же чувствуем, что мы имеем здесь дело с самым существенным моментом в уяснении того, что мы постигли как «Святыню» или «Божество». Ибо идея этого первоисточника правды и реальности остается – несмотря на все ее величие и возвышенность – все же в каком-то смысле неопределенной и неотчетливой для нашего религиозного сознания, – и притом не в том, адекватном самой сущности «Божества» смысле, что эта идея сама по себе превосходит всякую определенность, но и в том смысле, что мы сами еще не овладели ею с той степенью близости и интимности и тем самым не имеем ее с той отчетливостью и конкретностью, в которых мы нуждаемся. Философское размышление, даже трансцендируя (именно в трансцендентальном мышлении) за пределы чистой мысли, останавливается, поскольку оно направлено только на одно «Божество» как таковое, – несмотря на все свое усилие овладеть последней подлинно конкретной реальностью – все же перед чем-то искусственно изолированным и тем самым в известном смысле абстрактным. Но Божество, в качестве первоисточника или первоначала всей реальности, в конечном счете совсем не может быть отделено от всей остальной реальности, в порождении и обосновании которой именно и состоит его существо. Абсолютное первоначало открывается в своей конкретности лишь в связи со всей остальной реальностью, которую оно, полагая вне себя, все же вместе с тем имеет в себе и через себя. Оставляя пока в стороне всю возникающую здесь проблематику, которой мы займемся ниже, можно сказать, что Божество в его подлинной абсолютности, в его качестве быть всеобъемлющим и всепроникающим единством усматривается лишь в его связи со всей остальной реальностью.
Так как Божество открывается мне ближайшим образом лишь посредством моего бытийственного обращения к нему, лишь через внутреннее осознание той реальности, которая есть последняя основа, последнее основание моей душевной и духовной жизни – короче говоря, лишь в религиозном опыте, – то первое, о чем мы должны спрашивать и действительно постоянно спрашиваем, есть отношение между Божеством и мной.
Если мы обратимся теперь к этому отношению, то легко обнаружим, что, строго говоря, вообще невозможно мыслить – или, точнее говоря, опытно иметь – Божество вне и независимо от его отношения ко мне. И притом мы имеем в виду здесь не отвлеченный момент его отношения к человеку, а жизненно-конкретный, ни с чем иным не сравнимый, единственный в своем роде момент его отношения ко мне – ко мне, который сам есмь единственный и неповторимый, – или, точнее, момент моего отношения к нему. Это отношение есть не только единственный путь, на котором я могу дойти до Божества, приблизиться к нему, – оно есть единственная стихия, в которой открывается Божество и которая поэтому в каком-то смысле сопринадлежит к собственному существу и бытию самого Божества. Ибо Божество не есть «предмет», бытие которого было бы независимо от того, встречает ли его мой познавательный взор или нет. И дело идет здесь совсем не о «познавательном взоре», а о бытийственной обращенности как условии откровения Божества. Но это откровение принадлежит к существу и бытию Божества, и если Божество по своему существу сокровенно, то оно, с другой стороны, по своему существу есть и открывающее себя – открывающее себя именно в своей сокровенности и недостижимости – Божество. Но откровение есть откровение мне, обращено непосредственно на меня – иначе оно вообще не было бы откровением, а только знанием понаслышке о чем-то, смысл чего я даже не мог бы понять. «Идея» Божества, следовательно, собственно, совсем не может быть отделена от конкретного переживания, жизненного опыта Божества – от моего опыта Божества; не только свет этой идеи впервые возгорается в этом опыте, но она по существу принадлежит к нему или он – к ней. Божество по самому существу своему есть всегда «с-нами-Бог» (Эмману-эль), в конечном счете «со-мной-Бог»; «Бог без меня» есть некое предельное понятие, которое, правда, необходимо религиозному опыту (Бог не мог бы быть для меня, если бы я не мог мыслить его самого как такового); но это предельное понятие не передает сполна и конкретно того, что при этом мне открывается. Ибо то, что мне открывается, есть не только Бог «как таковой», а есть именно «Бог-со-мной», конкретная полнота нераздельного и неслиянного двуединства «Бог-и-я». Поэтому из последней глубины мистического Богосознания могло возникнуть дерзновенное слово, истинный смысл которого есть не гордыня самопревознесения, а именно благоговейный трепет перед полнотой того, что здесь открывается: «Я знаю, что Бог ни мгновения не мог бы жить без меня; если бы я погиб, Бог должен был бы от нужды во мне скончаться» [129].