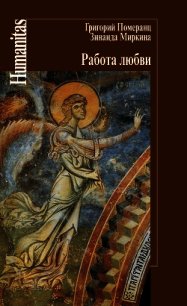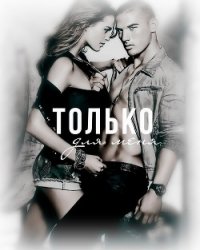Открытость бездне. Встречи с Достоевским - Померанц Григорий Соломонович (читать книги без регистрации TXT) 📗
Для настоящего Мышкина нет другого, чужого – как же католический мир стал для Мышкина абсолютно чужим, сартровский «недопустимым скандалом»? Нет, Достоевский спутал свои ипостаси и навязал Мышкину то, что должен был сказать другими устами. И сказал действительно, в «Бесах», почти слово в слово: «Вы веровали (напоминает Шатов Ставрогину. – Г. П.),что римский католицизм уже не есть христианство; вы утверждали, что Рим провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение, и что, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир. Вы именно указывали, что если мучается Франция, то единственно по вине католичества, ибо отвергла смрадного бога римского, а нового не сыскала».
Некая истина, некое сознание грехов исторической церкви высказано здесь, но односторонне и потому ложно, высказано по адресу одного римского католичества, совершенно обходя православие (примерно так, как все христиане бранят манихейство, не замечая манихейского деления на догму и ересь в своем собственном доме, не замечая, что манихейство только резче других выразило общую черту средиземноморской культуры, общую тенденцию, заложенную в самой логике средиземноморской мысли, в законе исключенного третьего [95]).
Католицизм превращен Достоевским в такого же козла отпущения за грехи всего христианства, как инородцы – за грехи России. Этот голос в Достоевском жил, и он должен был вырваться. Но не устами бы князя.
Мышкину скорее бы впору любовь к России, доставшаяся на долю Версилова, – когда начала уже вызревать Пушкинская речь, когда бесы, на пороге старости, начали отпускать душу Достоевского на покаяние: «...ибо высшая русская мысль есть всепримирение идей. И кто бы мог понять тогда такую мысль во всем мире: я скитался один. <...> И это потому, мой мальчик, что один я, как русский, был тогда в Европе единственным европейцем. Я не про себя говорю – я про всю русскую мысль говорю. <...> Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно тогда лишь, когда он наиболее европеец».
Я писал в «Строении глубин» (и в «Заметках о внутреннем строе»), что все написанные романы Достоевского – осколки одного ненаписанного (оставшегося тайной и только условно сопоставимого с замыслом «Жития великого грешника»). То, что было не дописано в одном романе, дописывалось в другом. И то, что было спутано в одном, в другом исправлялось. Например, слова Алеши Карамазова «Расстрелять!» – поправка к одностороннему изображению «наших» (одним этим словом дана возможность присутствия Алеши среди бесов – возможность Алеши, одержимого бесами, ангела, одержимого бесами...). Другая такая поправка – Версилов. Поправка ко всему, написанному в 1867–1873 годах. Может быть, под влиянием встречи с книгой Данилевского «Россия и Европа», такой же неприятной Достоевскому, как Ставрогину – встреча со своими идеями в устах ученика Шатова, но поправка была сделана.
С этой поправкой я принимаю мышкинскую веру в Россию. Я говорю: есть две любви к России. Одна – рогожинская (ставрогинская, шатовская), другая – мышкинская, версиловская. Вторую Достоевский связал с Пушкиным и его всемирной отзывчивостью. Первую можно связать с Аввакумом, с его готовностью умереть, только бы не переменить обычая, не отказываться от своего (ставшего своим, собственным , хотя когда-то втеснено было силой) [96].
От мышкинской любви расширяется сердце, и не остается в нем никакой ненависти. От рогожинской сердце сужается, и ревность убивает то, что любит, запирает в терему и душит.
В Мышкине, анафематствующем католичество, гений упал под ноги своему бесу, и бес скачет верхом на гении... И бес устами Мышкина вопит голосом Ставрогина. Этот несчастный случай позволяет еще раз указать на одну из тайн Достоевского, на внутреннюю связь пяти великих романов. Ни один из них не может быть понят сам по себе, но только в перекличке, в диалоге. В этой перекличке выстраиваются какие-то новые отношения, новые притяжения и отталкивания, может быть, не менее существенные, чем сюжетно выявленные. Например, Ставрогин – такой же важный антипод Мышкина, как Рогожин, даже, может быть, еще более важный [97].
Рогожин противостоит Мышкину в московском пласте русской жизни, примерно как царь Иван Васильевич – своему сыну Федору Ивановичу. Они – противоположности, но на одной плоскости, в одном ряду (Мышкин и Рогожин – крестовые братья). Если спросить, кто из них более русский, то, конечно, Рогожин (Мышкин в этом противопоставлении обнаруживает свою затронутость Западом, светлой стороной западной и петербургско-русской культуры. Рогожин даже Пушкина не читал). А Ставрогин – петербургский с ног до головы, по отношению к нему Мышкин – московский (с оттенком позднемосковского, оппозиционного Петербургу, славянофильства). Ставрогин Россию постулирует и то утверждает (с Шатовым), то отрицает (с Верховенским), но оба раза несколько свысока, как интересный парадокс, без боли; Мышкин болен Россией. Он приезжает из Швейцарии – Ставрогин в Швейцарию хочет уехать. Между ним и Мышкиным постоянная перекличка, постоянное внутреннее сравнение. Иногда мнимое сходство и за ним сразу – пропасть.
Темный герой «Бесов» (как и светлый герой «Идиота») окружен ореолом влюбленных женщин. Быть может, этот ореол женской любви, помимо своего буквального смысла, означает еще возможность всепрощающей любви, со всех сторон окружившей великого грешника. Внешне это похоже на ореол святости, но суть другая. «Антисияние» подчеркивает неспособность Ставрогина к любви, неспособность не только вспыхнуть первому, но хоть ответить на любовь. Это совершенное ничтожество в главном, среди множества даров, которыми блещет Ставрогин, поразительно до таинственного «прикосновения мирам иным», до мысли об антихристе. Ставрогин клеймит антихриста в другом (в католицизме), может быть, именно потому, что чувствует его в себе. Человек часто ненавидит в другом то, что в самом себе не может побороть, что он внутренне хорошо знает. Говорят, что «крайности сходятся». Они иногда, может быть, и не расходились, на последней глубине. Ненавистник деспотизма где-то в глубине души не победил соблазна власти; ненавистник догматизма где-то сам догматик; скажи мне, что ты ненавидишь, и я скажу, какой порок дремлет в тебе. Ненависть Ставрогина к антихристу – от антихриста, и ненависть его к Западу – от Запада. Он русский барин, но барин вестернизированный. Он мог бы (с некоторыми поправками) даже родиться на Западе и называться Андре Бретоном или войти персонажем в «Сладкую жизнь»... Он в себе самом познал, что обличает. А в Мышкине ненависти неоткуда взяться. В ком нет порока, нет и ненависти. Самая благородная, самая святая ненависть начинается там, где кончается способность любить. Но в Мышкине она нигде не кончится...
Герои Достоевского разбрелись сейчас по разным континентам. Рогожины где-то в Африке. Или, может быть, в негритянском гетто Америки. Раскольниковы лежат на тротуарах Калькутты, подостлав под себя газету, или в лагере беженцев возле Бейрута, под дырявым тентом, – и думают... А потом, подумав, прячут под мышкой автомат и идут убивать свою старушку, свою идею, свой принцип (сейчас больше деток убивают. Но убивают Раскольниковы, я на этом настаиваю. «Наши» – карикатура; убивают люди самоотверженные и, мне хочется верить, способные раскаяться, хотя бы в последнюю минуту, как благоразумный разбойник; дай Бог им дожить до этой минуты). А Ставрогин – на сытом Западе. Он устал от хорошего вкуса и смакует заведомо скверный. Или принимает ЛСД и испытывает врата восприятия [98]. Или собирается в вояж: то ли в Иерусалим, поджигать мечеть Аль-Акса; то ли в Непал, припасть к ногам аватары (воплощения) Кришны... Здесь, в России, главным героям Достоевского негде развернуться. На поверхности одна мелочь: Ракитины, Опискины [99]... И из нашей остановившейся страны мы смотрим, как из ложи, на то, что делается в мире, как Мышкина всюду сторожит Антимышкин: с ножом, с топором, с отравленным словом (Ипполиты), с тонкой способностью переворачивать идеи наизнанку, как Ставрогин. Мышкин – один, Антимышкиных – легион.