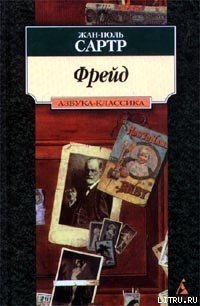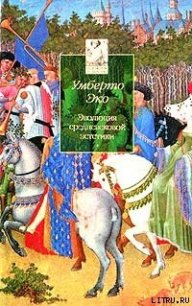Приготовительная школа эстетики - Рихтер Жан-Поль (читать книги бесплатно полные версии .TXT) 📗
Ну а игра радости? У нас есть по крайней мере один маленький эпический жанр — идиллия. Идиллия — это эпическое изображение полноты счастья в ограничении. Высшее восхищение — удел лирики и романтизма, — иначе Дантово небо и вкрапливаемые повсюду небеса Клопштока тоже пришлось бы причислить к идиллиям. Ограничение в идиллии может распространяться или на блага, или на взгляды, или на сословие, или на все это сразу. Но коль скоро идиллию по недоразумению связали с пастушеской жизнью, то по недоразумению же ее перенесли в золотой век человечества, как будто век этот только качался в тихой колыбели и как будто он не мог лететь в мчащейся колеснице Фаэтона. Чем доказано, что первый золотой век человечества не был самым богатым, вольным, светлым?
По крайней мере не Библией и не утверждениями некоторых философов, будто цветущая вершина воспитания всего рода человеческого станет повторением золотого века и будто народы, благополучно завершив круг познания и жизни, вновь обретут и рай и оба древа известных наименований. Сама по себе пастушеская жизнь кроме покоя и скуки дает едва ли многим больше того, что жизнь свинопаса; блаженная земля Сатурна — не овечий хлев, а небесное ложе и небесная колесница — не пастушеская телега. Феокрит и Фосс — Диоскуры идиллии — в мир своих Аркадий допускали все низшие сословия, первый даже циклопов, второй даже чиновных лиц, как, например, в «Луизе» и в других. «Герман и Доротея» Гёте — не эпос, а эпическая идиллия. «Векфилдский священник» остается идиллией, пока совершающееся в городе несчастье не натягивает все настроенные на один тон струны Эоловой арфы этого дома и пока они не превращаются в неблагозвучные и несогласные, причем конец перечеркивает начало.
«Школьный учителишка Вуц» известного нам автора — это идиллия, причем я поставил бы ее выше, чем иные критики, если бы не личные отношения с автором; сюда же несомненно попадут «Фикслейн» и «Фибель» того же сочинителя. Даже жизнь Робинзона Крузо и жизнь Жан-Жака на острове Петра освежает нас ароматом и сладостью идиллии. Так, вы можете возвысить до идиллии неторопливое путешествие возчика, пешим шагом, в добрую погоду и по хорошим дорогам, с его бесценными обедами и закусками, а в довершение всего (но это уже будет сверх всякой меры) вы можете еще показать ему — на постоялом дворе — его невесту. Так каникулы угнетаемого школьного учителя — день загулявшего ремесленника — крещение первого ребенка — и даже самый первый день, когда невеста государя, измученная придворными празднествами, в первый раз остается наедине со своим супругом, вместе с ним отправившись в цветущий и уединенный сад (свита прибудет позже), — короче, все дни могут стать идиллией, и все могут пропеть: «И мы были в Аркадии...» {1}.
Как же было не стать Рейну Гиппокреной — идиллической рекою Рая с четырьмя ее протоками и, более того, сразу же рекою и берегами! На волнах своих он несет юность, несет грядущее, на берегах своих — великое прошлое. Творения растут на берегах его, как вина его, и распространяют вокруг себя идиллическую радость; и мне не приходится вспоминать здесь о Мюллере-живописце {2}, но приходится — о романах, о незаслуженно забытых романах Фрорейха {3}, о его «Мыловаре» и других, об этих романах, исполненных восхищения Рейном.
Но что же столь радостно волнует нас и если не увлекает за собой, то всколыхивает и покачивает в идиллиях Феокрита и Фосса, как бы ни мало тратились в них дух и сердце? Почти готовый ответ — в последнем образе, в обыкновенной качалке: на качалке вы качаетесь, описывая малые дуги, без всякого труда взлетаете вверх и опускаетесь вниз и не вызываете возмущения и сотрясения воздуха ни сзади, ни спереди от вас. Такова же и радость от всего радостного в пасторали. У пасторали нет своей корысти, нет желаний, нет потрясений и волнений, ибо невинный малый круг радостей пастушка вы концентрически окружаете своим кругом высших радостей. Идиллически изображенной полноте счастья — в ней всегда отблеск вашего былого ребяческого счастья или вообще ограниченного — вы сами сужаете волшебный ореол воспоминаний, высшего поэтического взгляда на вещи, какой присущ вам; мягкий яблочный цвет и твердый плод, в жизни обычно увенчанный черным увядшим остатком цветка, здесь встречаются в одно время и чудесно украшают друг друга.
Если идиллия изображает полноту счастья в ограничении, то отсюда следуют две вещи. Во-первых, страсть, если грозовые облака ее остались уже позади, не смеет забираться на эти спокойные небеса со своими громами, только несколько дождевых облачков (дождь теплый) тут дозволены, но до них и после них — широкое и яркое сияние солнца на холмах и в долинах. Поэтому «Смерть Авеля» Гесснера — не идиллия.
Во-вторых, следует из первого, идиллию не смеет писать Гесснер, тем более не смеет француз, — а должны писать Феокрит, Фосс или уж Клейст {4}, Вергилий...
Идиллия именно ради этого ограничения полнотой своего счастья нуждается в самых светлых локальных красках, и притом не только в описании местности, но и положения, состояния, сословия, она отвергает неопределенные ароматные всеобщности Гесснера, где в лучшем случае из водяных красок выплывает вдруг овца или баран, а люди тонут. Резкость этого суждения не следует относить за счет добрейшего Августа Шлегеля, который нередко переписывает за новым числом прежние чужие резкости и, скорее, сам готов принять упреки в собственной резкости, — а следует отнести за счет Гердера [227], который в своих «Литературных фрагментах» пятьдесят лет тому назад поставил тогдашнего увенчанного лаврами воцарившегося Гесснера значительно ниже Феокрита {5} — у Феокрита всякое слово наивно, характерно, живописно, твердо и истинно. Какие великолепные краски природы мог бы позаимствовать Гесснер у своих альпийских лугов — у пастушьих хижин на лугах — у швейцарских рожков — у альпийских долин? В «Йери и Бетели» Гете больше швейцарской идиллии, чем в половине целого Гесснера. Посему французы и сочли последнего весьма аппетитным и в качестве доброго свежего швейцарского молочного сахара перевели на французский в дополнение к идиллическому superfin {6} Фонтенеля. Недобрый знак, если немец хорошо переводится на французский; вот почему в Лессинге, Гердере, Гете и других следует помимо всего прочего высоко ценить еще и то, что совсем не понимает их человек, совершенно не знающий немецкого языка.
И если, кстати сказать, для идиллии вполне безразлична сцена, на которой разыгрывается действие, будь то Альпы, пастбища, Таити, будь то комната в доме священника, — идиллия — это безоблачное небо, и это голубое: небо одинаково встает и над вершиной утеса, и над садовой грядкой, и над шведской зимней ночью, и над итальянской летней, — то с той же полнейшей свободой можно выбирать и участников игры, пока не отпадает условие — полнота счастья в ограничении. Поэтому неверно или ненужно такое дополнение к определению, что цветы свои идиллия взращивает за пределами гражданского общества. Разве маленькое общество пастухов, охотников, рыбаков — не гражданское? Тем более общество в идиллиях Фосса? В лучшем случае с одним можно согласиться, — что идиллия, то есть полнота счастья в ограничении, не допускает множества участвующих лиц и всесилия больших колес государственного механизма, лишь жизнь в огороженном забором саду пристала для блаженствующего в идиллии, для тех, кто вырвал себе страницы из книги блаженных — для радостных лилипутов, для которых цветочная грядка — целый лес, для лилипутов, которые приставляют лестницу к карликовому деревцу, чтобы снять с него урожай.