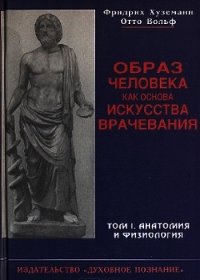О воле в природе - Шопенгауэр Артур (книги бесплатно без онлайн .TXT) 📗
В 1835 г., когда я это писал, я еще был настолько простодушен, что серьезно верил, что мое произведение неизвестно господину Брандису; в противном случае я бы не упомянул здесь его работы, так как они были бы не подтверждением, а лишь повторением, применением и изложением моего учения в данном пункте. Однако я полагал, что могу со всей уверенностью исходить из того, что мои работы ему не известны, поскольку он обо мне нигде не упоминает; между тем, если бы я был ему известен, то порядочность писателя заставила бы его обязательно упомянуть о человеке, у которого он заимствовал свою главную и основную мысль, тем более что он не мог не знать, как общее игнорирование работ этого человека ведет к незаслуженному пренебрежению ими, что легко может быть истолковано, как намерение скрыть их. К тому же, в собственных интересах г. Брандиса было сослаться на меня, и это свидетельствовало бы о его уме. Ведь созданное им основное положение его учения настолько необычно и парадоксально, что вызвало даже удивление его геттингенского рецензента, который не знает, как с ним быть; и это положение г. Брандис не обосновал, собственно говоря, доказательством или индукцией и не установил его отношение ко всему нашему знанию о природе: он просто высказывает его. Поэтому я и решил, что он пришел к этому благодаря своеобразному дару предвидения, наподобие того, который позволяет выдающимся врачам распознавать течение болезни и действовать правильно, не обладая способностью строго методически определить основы метафизической истины, хотя и не мог не видеть, насколько его учение противоречит сложившимся взглядам. Если бы он, думал я, был знаком с моей философией, которая устанавливает ту же истину в значительно большем объеме, показывает ее действенность по отношению ко всей природе, обосновывает ее доказательством и индукцией в связи с учением Канта, из доведения которой до логического завершения она вышла, — как приятно должно было бы быть ему сослаться на мою философию и опереться на нее, чтобы не стоять одиноко со своим неслыханным утверждением, которое только таковым и остается. Эти причины заставили меня тогда считать несомненным, что г. Брандису действительно не известны мои работы.
Но с тех пор я ближе познакомился с немецкими учеными и копенгагенскими академиками, к которым принадлежал г. Брандис, и пришел к убеждению, что он очень хорошо знал мои работы. Основания к этому я уже изложил в 1844 г. во втором томе «Мира как воли и представления» (глава 20, с. 263) и не хочу, поскольку эта тема мало приятна, повторять их здесь; добавлю только, что впоследствии я получил из верного источника подтверждение того, что г. Брандис в самом деле знал мою основную работу, что она даже была у него, так как оказалась в его наследии. — Длительная незаслуженная неизвестность такого писателя, как я, придает подобным людям смелость присваивать даже его основные мысли, не ссылаясь на него.
Еще дальше, чем г. Брандис, зашел другой медик: он не только использовал мысли, но и привел их дословно. Г. Антон Розас, ординарный профессор Венского университета, дословно списал § 507 в первом томе своего «Руководства по офтальмологии», опубликованного в 1830 г., со страниц 14—16 моей работы 1816 г. «О зрении и цветах», не упоминая при этом моего имени и вообще никак не проявляя того, что здесь говорит не он, а другой. Уже это в достаточной степени объясняет, почему он в своих перечнях 21–й работы о цветах и 40 работ по физиологии глаза, которые дает в § 542 и § 567, остерегся назвать мое сочинение; и это было тем более благоразумно, что он заимствовал из него многое другое, не ссылаясь на меня. Например, то, о чем в § 526 говорится: «некоторые» утверждают, — утверждаю только я. Весь его § 527 взят, хотя и не дословно, со с. 59 и 60 моей работы. То, что в § 535 он прямо приводит как «очевидное», а именно, что желтое составляет 3/4, а фиолетовое — 1/4 деятельности глаза, ни одному человеку не было когда–либо «очевидно», пока не сделал это «очевидным» я, и вплоть до сего дня остаемся лишь немногими понятой и еще меньшим числом людей признанной истиной; а для того чтобы ее можно было назвать «очевидной», требуется еще кое–что: помимо всего остального, чтобы я был похоронен; до той поры следует отсрочить даже серьезную проверку данной проблемы, поскольку при такой проверке легко может действительно стать очевидным, что подлинная разница между теорией цветов Ньютона и моей заключается в том, что его теория ложна, а моя верна, — а это ведь может оказаться обидным для моих современников; поэтому серьезную проверку этого вопроса мудро и по древнему обычаю и отложили на несколько немногих лет до моей смерти. Г. Розасу эта политика не была известна, но, подобно копенгагенскому академику Брандису, он счел возможным, поскольку об этом открытии нигде не упоминается, приписать его себе в качестве bonne prise. Как видно, северо–немецкая и южно–немецкая порядочность еще недостаточно понимают друг друга. — Далее, все содержание §§ 538, 539 и 540 книги г. Розаса полностью взяты из моего § 13, большей частью даже дословно списаны с него. Впрочем, в одном случае ему пришлось цитировать мою работу, а именно в § 531, когда ему для одного факта понадобился авторитет. Забавно, что он приводит даже те дроби, посредством которых я, следуя моей теории, выражаю все цвета. Заимствовать их sans facon (бесцеремонно, не церемонясь (фр.).) показалось ему, вероятно, все–таки рискованным; поэтому он на стр. 308 говорит: «Если бы мы захотели выразить первичное отношение цветов к белому в числах и приняли белое за единицу, то можно было бы, кстати сказать, (как это уже сделал Шопенгауэр) установить примерно следующую пропорцию: желтый цвет = 3/4, оранжевый = 2/3, красный = 1/2, синий = 1/3, фиолетовый = 1/4, черный = 0». — Хотел бы я знать, как это можно «кстати сказать» установить, не продумав сначала всю мою физиологическую теорию цветов, к которой только и относятся эти числа и вне которой они — просто безымянные числа, не имеющие никакого значения; и, как это вообще возможно, если придерживаться, как г. Розас, теории цветов Ньютона, которой эти числа полностью противоречат; и наконец, как могло случиться, что за все тысячелетия, в течение которых люди мыслили и писали, никогда никому, кроме нас двоих, г–на Розаса и меня, не приходило в голову рассматривать именно эти дроби как выражения цветов? Ибо что он совершенно так же установил бы их, даже если бы я случайно не сделал этого «уже» за 14 лет до него, совершенно напрасно предвосхитив его, выражают вышеприведенные слова, из которых явствует, что все дело только в том, чтобы «захотеть». Между тем именно в этих дробях заключена тайна цветов, и правильное представление о сущности цветов и их отличие друг от друга можно получить только посредством этих дробей. — Впрочем, я был бы рад, если бы плагиат являлся самым недостойным фактом, позорящим немецкую литературу; есть еще много других, гораздо более глубоких и пагубных, к которым плагиат относится, как незначительное pickpocketing (карманное воровство (англ.).) к тяжким преступлениям. Я имею в виду тот низкий, подлый дух, для которого путеводной звездой служит личный интерес, там, где ею должна быть истина, и под маской познания выступает умысел. Лицемерие и лесть вошли в повседневный обиход. Тартюфиады разыгрываются без грима, даже капуцинады звучат в местах, посвященных наукам: почетное слово «просвещение» стало едва ли не ругательством, величайшие люди прошлого столетия, Вольтер, Руссо, Локк, Юм подвергаются поношению — они, эти герои, краса и благодетели человечества, чья распространившаяся по обоим полушариям слава может, если это мыслимо, еще возрасти только благодаря тому, что обскуранты всегда и повсюду выступают как их злейшие враги, — и на это есть причина. Для порицания и похвалы заключаются литературные партии и братства — все дурное прославляется, о нем трубят на весь мир, все хорошее подвергается поношению или, как говорит Г¨те: «Держат в секрете и нерушимом молчании, и в инквизиционной цензуре такого рода немцы достигли совершенства» (Дневниковые записи, год 1821). Но мотивы и соображения, в силу которых все это совершается, слишком низки, чтобы я занимался их перечислением. Как отличается издаваемое в интересах дела независимыми gentlemen «Edinburg review» (джентльменами из «Эдинбургского Обозрения» (англ.).), которое с честью 035 следует своему благородному, взятому из Публия Сира, эпиграфу: «Judex damnatur, cum nocens absolvitur» 036 , от преисполненных трусливых соображений и умыслов, недостойных немецких литературных журналов, сфабрикованных в большинстве своем наемниками ради денег, эпиграфом которых должно было бы быть: «Accedas socius, laudes, lauderis ut absens» 037 . — Теперь, через 21 год, я понимаю смысл сказанного мне Г¨те в 1814 году в Берке, где я застал его за чтением книги де Сталь «De l'Allemagne» 038 и в разговоре высказал свое мнение, что она преувеличивает честность немцев, чем может ввести иностранцев в заблуждение. Г¨те рассмеялся и сказал: «Да, в самом деле, они не станут [крепко] привязывать чемодан к экипажу, и у них его отрежут». Потом он серьезно добавил: «Но тому, кто хочет ознакомиться с бесчестностью немцев во всем ее объеме, надо познакомиться с немецкой литературой». — Поистине так! Однако самое возмутительное во всей бесчестности немецкой литературы — это служение времени мнимых философов, подлинных обскурантов. Служение времени: это слово, хотя я и образую его по английскому образцу, не нуждается в пояснении, а его суть — в доказательстве: каждый, кто осмелился бы отрицать это, дал бы убедительное доказательство моему утверждению. Кант учил, что человека надо рассматривать как цель и никогда не относиться к нему как к средству: утверждать, что в философии надо видеть цель и никогда не пользоваться ею как средством, он не считал необходимым. Служение времени можно на худой конец извинить человеку в любом одеянии, в рясе и в соболях, — но только не в мантии философа, ибо тот, кто ею облачен, принес присягу знамени истины и там, где речь идет о служении ей, любое другое соображение, каким бы оно ни было, является низким предательством. Поэтому Сократ не пытался избегнуть цикуты, а Бруно — костра. Тех же, мнимых философов, можно увести в сторону куском хлеба. Неужели они так близоруки, что не видят как там, уже совсем близко, в грядущих веках история философии выводит неумолимо железным стилем твердой рукой две горькие строки проклятия в своей нетленной книге? Или их это не интересует? Впрочем, вряд ли. Ведь «Apres moi le deluge» еще в конце концов можно сказать, но «apres moi le mepris» 039 как–то нейдет с языка. Поэтому я думаю, что они обратятся к этому судье со следующими словами: «Ах, милое потомство и история философии, вы ошибаетесь, принимая нас всерьез: мы ведь совсем не философы, Боже упаси! Мы только профессора философии, просто государственные служащие, просто ради шутки философы! Ведь, не зная этого, вы уподобитесь тем, кто потащит одетых в картонные латы рыцарей сцены на подлинный турнир». Тогда судья поймет, перечеркнет все эти имена и дарует им «beneficium perpetui silentiae» 040 .