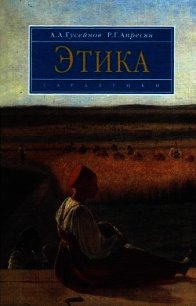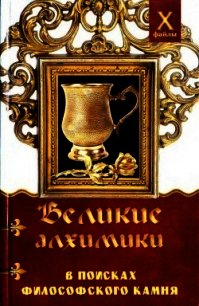Великие пророки и мыслители. Нравственные учения от Моисея до наших дней - Гусейнов Абдусалам (читать онлайн полную книгу .TXT) 📗
Ясно понимая, что в нравственности речь идет не о законах «по которым все происходит», а о законах, «по которым все должно происходить», Кант четко разводит два вопроса: а) каковы принципы, законы морали и б) как они реализуются в опыте жизни. Соответственно и моральная философия разделяется на две части: на априорную и эмпирическую. Первая им именуется метафизикой нравственности или собственно моралью, а вторая — эмпирической этикой или практически антропологией. Соотношение между ними такое, что метафизика нравственности должна предшествовать эмпирической этике. Демонстрируя поистине спартанское мужество мысли, Кант утверждает, что моральный закон останется непоколебленным даже в том случае, если в его подтверждение не будет предъявлено ни одного примера. Более того, сама достоверность морального закона является сугубо негативной, решающим аргументом в его пользу может считаться то, что «и в опыте нельзя найти ни одного примера, где бы он точно соблюдался» (391).
Идея, согласно которой чистая (теоретическая) этика не зависима от эмпирической, предшествует ей, или, что одно и то же, мораль может и должна быть определена до и даже вопреки тому, как она явлена в мире, прямо вытекает из представления о нравственных законах как законах, обладающих абсолютной необходимостью. Понятие абсолютного, если оно вообще поддается определению, есть то, что содержит свои основания в себе, что самодостаточно в своей неисчерпаемой полноте. И абсолютной является только такая необходимость, которая ни от чего другого не зависит. Поэтому сказать, что моральный закон обладает абсолютной необходимостью и сказать, что он никак не зависит от опыта и не требует даже подтверждения опытом — значит сказать одно и то же.
Фиксируя данный момент, следует отметить: основоположения кантовской этики имеют ту особенность, что все они указывают друг на друга, выводятся друг из друга. — В этом смысле, поскольку мы начали рассмотрение кантовской этики с суждения об абсолютности морали, то все другие основоположения могут быть интерпретированы как логические следствия или иная формулировка данного суждения. Шопенгауэр уподоблял свое учение Фивам, все сто ворот которого прямо ведут к центру. Этику Канта можно было бы уподобить волшебному городу, в котором, куда бы ты ни пошел, всегда остаешься в центре, в котором все окрашено в изумрудный цвет абсолюта.
Итак, чтобы найти моральный закон, нам надо найти абсолютный закон. Что же может быть помысленно в качестве абсолютного начала?
Нравственный закон
Добрая воля — таков ответ Канта: «Нигде в мире, да даже и вне его, невозможно мыслить ничего, что могло бы считаться без ограничения добрым, кроме только доброй воли» (59). С этого утверждения начинается основной текст «Основоположения к метафизике нравов». У читателя возникает законное недоумение по поводу на первый взгляд не совсем законного появления в рассуждении Канта понятия доброго. Не впадает ли Кант в порочный круг, когда в определение включается то, что подлежит определению? В самом деле: Кант ищет ответа на вопрос, что такое мораль (или добро); он аксиоматически установил, что она тождественна абсолютному закону; а теперь, пытаясь расшифровать понятие абсолютного закона, он снова апеллирует к добру (морали).
Недоумение рассеивается, если принять во внимание, что под доброй волей он имеет ввиду безусловную, чистую волю, т. е. волю, которая сама по себе, до и независимо от каких бы то ни было влияний на нее обладает практической необходимостью. Говоря по другому, абсолютная необходимость состоит в «абсолютной ценности чистой воли, не позволяющей при ее оценке принимать в расчет какую-либо пользу» (63). Ничто из свойств человеческого духа, качеств его души, внешних благ, будь то остроумие, мужество, здоровье и т. п., не обладает безусловной ценностью, если за ними не стоит чистая добрая воля. Даже традиционно столь высоко чтимое самообладание без доброй воли может трансформироваться в хладнокровие злодея. Все мыслимые блага приобретают моральное качество только через добрую волю, а она же сама имеет безусловную внутреннюю ценность. Добрая воля, собственно говоря, и есть чистая (безусловная) воля, т. е. воля, на которую не оказывают никакого воздействия внешние мотивы, которая чиста от вожделений, корысти, сострадательности, внешних иных склонностей.
Волей обладает только разумное существо, так как воля есть способность поступать согласно представлению о законах. Говоря по другому воля есть практический разум. Именно в этом Кант усматривает «намерения природы, придавшей нашей природе еще и правящий разум» (63). Если бы речь шла о самосохранении, преуспеянии, счастье человека, то с этой задачей вполне и намного лучше мог бы справиться инстинкт, о чем свидетельствует опыт неразумных животных. Более того, разум является своего рода помехой безмятежной удовлетворенности, что, как известно, даже дало возможность античным скептикам школы Пиррона считать его основным источником человеческих страданий. Во всяком случае нельзя не согласиться с Кантом, что простые люди, предпочитающие руководствоваться природным инстинктом, бывают счастливее и довольнее своей жизнью, чем рафинированные интеллектуалы. Кто живет проще, тот живет счастливее. Поэтому, если не думать, что природа ошиблась, создав человека разумным существом, то необходимо предположить, что у разума есть иное предназначение, чем изыскивать средства для счастья. Истинное назначение разума «должно состоять в произведении воли не как средства для какой-нибудь другой цели, но самой по себе доброй воли»(69). Так как культура разума приноровлена и предполагает безусловную цель, то вполне естественно, что она плохо справляется с задачей обслуживания человеческого стремления к благополучию, ибо это — не ее царское дело. Разум порождает, учреждает чистую добрую волю, чистая добрая воля не существует вне разума именно потому, что она чистая, не содержит в себе ничего эмпирического. Это отождествление разума и доброй воли составляет высшую точку, самое сердце кантовской философии.
Признать добрую волю разумной означало, что объективно она определяется безусловным законом, а субъективно представлением о законе самом по себе, а такое представление может быть только у разумного существа. Оно по Канту является и знанием и особого рода чувством, для его характеристики он пользуется понятием уважения: «когда я непосредственно познаю нечто как закон для себя, я познаю это с уважением, которое означает просто сознание подчинения моей воли закону, без посредства других влияний на мое чувство» (83). Уважение философ называет чувством, порожденным понятием разума. Оно является единственным в своем роде и отличается от всех обычных чувств, относящихся к роду страха или склонности. Необходимость действия из уважения к закону Кант называет долгом. Он различает действия сообразно долгу (как, например, честную торговлю, которая, будучи честной, в то же время и выгодна продавцу) от действий, совершенных ради долга (как та же торговля, которая оставалась бы честной, став очевидно невыгодной), а действия, представляющие ценность также своими результатами, — от действий, ценность которых заключается исключительно в самом принципе воли. Только действия второго рода являются действиями по долгу.
Итак, нравственный закон есть закон воли, он не имеет природного, материального содержания и определяет (должен определять) волю безотносительно к какому-либо ожидаемому от него результату. В поисках закона воли, обладающего абсолютной необходимостью, Кант доходит до идеи закона до той последней черты, когда «не остается ничего, кроме всеобщей законосообразности действий вообще, которая единственно и должна служить воле принципом» (85). Иметь добрую волю значит иметь такие субъективные принципы воления (максимы), которые включают в себя желание быть возведенными во всеобщий закон.
К примеру, человек оказался в затруднительном положении, из которого он может выйти, дав обещание без намерения его выполнить. В этой ситуации, как говорит Кант, следует различать два вопроса: является ли такой способ поведения благоразумным и является ли он правоверным. С помощью лживой увертки можно выйти из конкретной затруднительной ситуации, но никогда нельзя точно сказать, какие последствия в будущем могут возникнуть для человека, потерявшего доверие и он, вполне возможно, не досчитается значительно больше того, что временно приобретает. Поэтому благоразумие требует давать честные обещания. Совет благоразумия, хотя он сам по себе верен, построен на боязни дурных последствий и не обладает должной твердостью; ведь человек вполне может придти к выводу, что бояться ему нечего, и он вполне может обмануть с большой выгодой для себя. Другое дело, если следовать данной норме как нравственному требованию, рассматривать его в качестве долга. Но как узнать, может ли в данном случае речь идти о долге или нет? Для этого необходимо провести мысленный эксперимент и задаться вопросом: хочу ли я чтобы каждый имел право на ложное обещание в ситуациях, которые он считает для себя затруднительными? Говоря иначе, желаю ли я, согласен ли я, чтобы ложь стала общим для всех законом? При такой постановке выясняется, что тот, кто подвержен искусу ложного обещания и желал бы его дать, тем не менее, сохраняя способность к последовательному мышлению, никак не может желать того, чтобы это стало всеобщим законом, ибо в этом случае никто бы ему не поверил. Более того, ложное обещание как раз предполагает, что оно будет воспринято не как ложное, что оно, следовательно, не должно быть возведено во всеобщее правило. «Следовательно, моя максима, коль скоро она сделалась бы всеобщим законом, необходимо разрушила бы самое себя» (89). Что и требовалось доказать: нравственный закон найден.