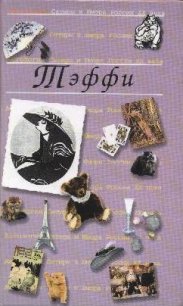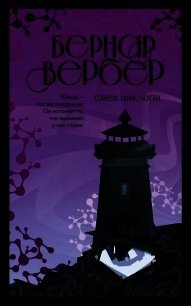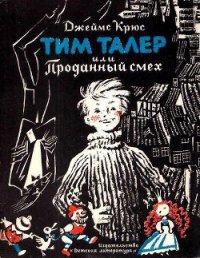Homo amphibolos. Человек двусмысленный Археология сознания - Березин Сергей Викторович (книги без сокращений .txt) 📗
Остаточные явления, связывающие смех с деструкцией, болью, редуцированным убиением, можно наблюдать и сейчас. Случайно поскользнувшийся и упавший человек охает и корчится от боли. Нередко это вызывает смех, чаще всего у детей и подростков, стихийно воспроизводящих формы архаического сознания. Воспитанные взрослые такое поведение правомерно осуждают, оценивая его как проявление жестокости, равнодушия к чужой боли и хамства. И это правильно. Смеющиеся над чужой бедой подростки достойны порицания, с точки зрения современной морали.
Однако задумаемся над тем, кто научил их такому гадкому поведению. Оно передается из поколения в поколение из глубин архаики. То, что пострадавший шевелится и издает звуки, уже говорит о том, что он жив и надежда на его «возрождение» осталась. Импульсивная смеховая реакция детей и подростков в этой ситуации — истинное хамство, она подобна смеховой реакции Хама на наготу пьяного Ноя. Хам смеется потому, что его архаическая импульсивная реакция на созерцание обнаженного материально-телесного низа, кстати, абсолютно адекватная, оказалась сильнее, чем более позднее табу патриархального общества, требующее уважения к Отцам.
Любопытно, что случайное падение, имитирующее сильную боль и страдание, до сих пор является излюбленным приемом комедии положений и клоунады. Архаические формы смеха живы и сейчас, но находятся в состоянии постоянной репрессии и корректировки со стороны возникающих табу. Поэтому в некоторых мифологиях ритуальный смех при расчленении хаоса весьма редуцирован. Таков, например, античный миф о расчленении Пифона Аполлоном. Совершенно другую картину мы наблюдаем в древнекитайской мифологии. Миф о хаосе, который у китайцев носит имя Хунь-тунь, и сотворении Вселенной явно насыщен мощным смеховым зарядом.
Владыку Южного моря звали Шу — Быстрый, а владыку Северного моря звали Ху — Внезапный, а владыку Центра — Хунь-тунь — Хаос. Шу и Ху часто ради развлечения навещали Хунь-туня. Хунь-тунь встречал их необычайно приветливо и предупредительно. Однажды Шу и Ху задумались о том, как отплатить ему за его доброту. Каждый человек, сказали они, имеет глаза, уши, рот, нос — семь отверстий на голове, для того, чтобы видеть, слышать, есть и т. д. У Хунь-туня не было ни одного, и жизнь его не была по-настоящему прекрасной. Самое лучшее, решили они, пойти к нему и просверлить несколько отверстий. Взяли Шу и Ху орудия, подобные нашим топору и сверлу, и отправились к Хунь-туню. Один день — одно отверстие, семь дней — семь отверстий.
Акт творения укладывается у них в то же время, что и у библейского творца.
Но бедный Хунь-тунь, которого лучшие его друзья так издырявили, печально вскрикнул и приказал долго жить [149].
Китайский мифолог Юань Кэ отмечает в этом древнем тексте, включающем в себя одну из основных мифологических концепций сотворения мира, явный комический оттенок. Хунь-тунь, на теле которого Шу и Ху, олицетворяющие быстротечность времени, просверлили семь отверстий, умер, но в результате возникли Вселенная и Земля. Отмечая, что письменная фиксация китайских мифов является довольно поздней (всего лишь около двух тысяч лет назад), а записи в древних книгах крайне скудны и лаконичны, и поэтому восстановить подлинный облик древнекитайской мифологии весьма трудно, Юань Кэ замечает, что есть основания выделить более позднее представление о хаосе. Так, хаос Хунь-тунь в преданиях последующих поколений превратился в нечто неприятное. Хунь-тунь там — это дикий зверь, похожий на собаку и бурого медведя, имеющий глаза, но ничего не видящий, имеющий уши, но ничего не слышащий. Столкнувшись с добродетельным человеком, Хунь-тунь в дикой ярости набрасывается на него, а к злому, дурному человеку и насильнику подползает, кивая головой и махая хвостом.
Такой подлый характер был дан ему природой. Когда ему нечего делать, он, кружась, с удовольствием кусает свой собственный хвост, задирает голову, смотрит на небо и громко хохочет [150].
Китайский миф, как мы видим, зафиксировал в своих относительно поздних пересказах значительную роль смеха в акте расчленения хаоса и космогонии.
Стоит заметить, что любой космогонический миф повествует о том, что разъятие, разрубление, разрезание хаоса порождает элементы, из которых строится мир, космос. Есть основания предполагать, что эти мифы являются попытками воссоздать не процесс формирования Вселенной, поскольку наши предки жили в природной среде, упорядоченной ее объективными законами, а мыслительным экспериментом по воссозданию состояния сознания переходного существа, стоящего на грани между животным (или почти животным) и формирующимся человеком. Вряд ли в головах этих существ царили благополучие и порядок. Развивающаяся рефлексивная функция, порожденная резким изменением информационного поля, лишала их упорядоченности жизни, основанной на инстинктах. Человеческий разум только формировался и еще не успел выстроить мифологическую модель Вселенной, границы были неустойчивы, бинарные оппозиции только складывались. Все это, вероятно, не могло не вызывать невротическую дезориентацию и мучительную неопределенность. Может быть, это и был хаос?
Одной из главных черт хаоса, связанных с представлением о его нерасчлененности и синкретическом единстве, некоем сращении всего и вся, полном отсутствии четких моделей, является его протеизм, то есть произвольная, спонтанная и безграничная возможность превращения всего во все. Эта безграничная свобода превращений при отсутствии всяких границ собственно свободой и не является. «Переливы» хаоса, как всполохи северного сияния, «игра» хаоса, как блики на воде, не имеют никакого смысла, последствий и логики до тех пор, пока не появляется космос. В этом отношении гротеск можно рассматривать как недоструктурированные, недоразъятые «фрагменты», куски хаоса, прорвавшиеся в только что возникший космос и там продолжающие переживать метаморфозы. Гротеск — это модель, еще не обретшая совершенства и внутреннего баланса и стремящаяся к ним. Встреча с гротеском в силу его изначально остаточной двусмысленности всегда вызывает явную неопределенность, страх и еще не явленный, потенциальный, как бы рождающийся смех. Гротеск — это уже модель, то есть часть космоса, жизни, человеческого мира, но, с другой стороны, в силу своей незавершенности, «недомоделированности», «недоделанности» он вызывает постоянную рефлексию и неуверенность по поводу границы.

Давая свое определение гротеску, М.М. Бахтин рассказывает историю появления этого термина в эпоху Возрождения. По его словам, в Риме в XV веке при раскопках подземных частей терм Тита был обнаружен до того времени неизвестный вид римского орнамента, который назвали по-итальянски от слова «grotta», то есть грот, подземелье — гротеск. Описание этого орнамента у М.М. Бахтина является одновременно и тонким анализом его природы и особенностей. М.М. Бахтин пишет:
Вновь найденный римский орнамент поразил современников необычайной, причудливой и вольной игрой растительными, животными и человеческими формами, которые переходят друг в друга, как бы порождают друг друга. Нет тех резких и инертных границ, которые разделяют эти «царства природы» в обычной картине мира: здесь, в гротеске, они смело нарушаются, нет здесь и привычной статики в изображении действительности: движение перестает быть движением готовых форм — растительных и животных — в готовом же и устойчивом мире, а превращается во внутреннее движение самого бытия, выражающееся в переходе одних форм в другие, в вечной неготовности (выделено автором) бытия. В этой орнаментальной игре ощущается исключительная свобода и легкость художественной фантазии, причем свобода эта ощущается веселая (разрядка автора), как почти смеющаяся вольность (разрядка автора) [151].