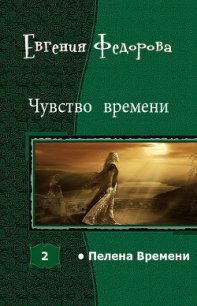Психологическая топология пути - Мамардашвили Мераб Константинович (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
И вот, живя в обществе, в котором мы только и заняты тем, что подмигиваем, мы и в день подведения счетов, итогов должны все-таки заглянуть в себя, потому что, хотя мы и маленькая нация, не историческая нация, то есть не несущая исторической ответственности, мы все равно связаны с развитием современной техники, в том числе техники войны; мы не можем отложиться, отойти в сторону и посмотреть, что будет во время катастрофы, и потом пожинать плоды катастрофы. Этого не может быть. Снова посмотрим, что говорит нам европейская мысль. Какой опыт она выработала, и что посредством этого опыта и книг, в которых записан этот опыт, мы можем прочитать в себе и в своей душе. Потому что наши движения автоматичны и мгновенны, а эта мгновенность и автоматичность очень опасны для нас. Когда мы говорим «виновата среда» – автоматический ход мысли, которого очень трудно избежать. Но можно показать, что его нужно избежать, что мы погибнем, если будем так думать. И тем более нам интересен, конечно, опыт тех людей, которых мы называем «героями» – именно в этом смысле слова. В том смысле, что герой – это человек, который никогда не может сказать, что виновата среда. То, что я сейчас так примитивно изложил, и есть европейская проблема еще в том смысле, что в Европе есть традиция думать об этом. Она имеет слова, термины, и мы их, к сожалению, не знаем. Не наша вина – но, я повторяю, запрещено говорить «не наша вина». Запрещено в контексте того менталитета, который я описываю как героический энтузиазм. Вы понимаете, о чем идет речь? Нельзя, безнравственно так говорить. Хотя эмпирически, чисто жизненно я понимаю людей, которые так говорят. Человек сам должен создавать в себе атмосферу, которой он дышит. Она ему не дана, нам в особенности. Он должен сам создавать или добывать те книги, которые ему никто на подносе не принесет, сам получать информацию, которую ему тоже никто на подносе не принесет. Разными путями – потому что когда начинаешь шевелиться, то в итоге жизненный контур складывается.
Вернусь к той традиции, в которой существует обдумывание этих вещей. Тот менталитет, в котором говорится – вот, среда заела или, чтобы быть добрым, нужно, чтобы был смысл быть добрым, – называется нигилизмом. В России это слово тоже фигурировало, но совершенно иначе понятое. И вот почему я говорю «европейская традиция». Российская литературная традиция нам вообще не годится для обдумывания этих вещей. Мы там ничего не поймем. И поэтому нужно обращаться к европейской традиции. Так вот, в европейской традиции это называется нигилизмом. Целое большое течение мысли, названное нигилистическим, отдельно не выделено. Есть отдельно выделенные течения мысли: феноменология, экзистенциализм. Нигилизм – нет такого течения. Нигилистическая мысль есть элемент очень многих человеческих состояний и очень многих течений. Этот элемент я встречаю и у европейских людей, которые вообще даже не знают этого слова, но у них это работает – нигилистическая мысль. Приведу пример нигилистической мысли. Скажем, недавно слышал по радио: обсуждалась какая-то социальная проблема и говорилось примерно так – что вот, глядя на это общество, на то, что происходит, невозможно верить в Бога. Или просто «верить» в высоком человеческом смысле слова. Вот эта фраза сказана нигилистом. Потому что только нигилист предполагает, что в мире есть реальное Божье дело, воплотившееся в каком-то институте, государстве, стране, и тогда, раз оно есть, имеет смысл жить, появляется надежда. А герои наши говорят другое. Блейк писал: некоторые говорят, что только один Бог действенен в мире. А я утверждаю, что Бог действенен во всем живущем и вне его не существует. Это означает, развивает дальше эту мысль Блейк, что эти два типа всегда будут различны и всегда будут антагонистичны. Их примирить нельзя [265]. Какие два типа он называет? Он называет нигилиста – что-то делается без меня, само собой. Есть какой-то механизм, который производит счастье, есть какой-то механизм, который производит добро. А если этого механизма нет, то вообще ничего нет. А Блейк, будучи мистиком и принадлежа искусству, с которым мы соприкасаемся и которое повторяется в XX веке, считал, что есть только то, что со мной, с моим присутствием и с моим участием. И нет ничего в мире, что можно было бы получить в виде механизма. Механизма счастья, например. Поэтому не случайно в российской культуре… скажем, Чернышевский до самых старческих лет периодически возвращался к юношеской мечте: к изобретению вечного двигателя. Вот это – предельная идея нигилистического механизма. Я могу наладить вечный двигатель счастья, а сам могу отвернуться и заняться другими делами. А он тем временем будет производить счастье. Точно так же и общество они пытались наладить. Ведь вот что они понимали под революцией? Наладить механизм производства счастья. А философия говорит, что счастье, добро, дружба, братство не могут быть механизмом. Они могут быть только дарами. Если ты поработал, то это может быть тебе подарено, и то не всегда. Хотя заслуга есть, но не всегда вознаграждение может быть за заслугу. А заслуга может быть только одна – нужно быть готовым и к награде, и к наказанию. Готовым своим трудом.
Если вы посмотрите теперь, какую конструкцию строят Джеймс Джойс или Эзра Паунд, Элиот, Антонен Арто в своем театре, конструкцию, которую строит Пруст в своем романе, которым мы начали заниматься, вы увидите там одно и то же. Что именно? Во-первых, воспроизведение всего мира в точке собственного личного действия. Во-вторых, веру в твердую и четкую форму, имеющую очертания и способную что-то производить. Не «я» производит, а форма производит. Я вам вновь напоминаю проблему Пруста: Пруст строит роман, который есть в каком-то смысле собор, детали которого сцеплены с такой силой и с таким напряжением, что они внутри романа производят события – не жизнь спонтанно порождают, а они порождаются сильно сцепленной формой. И в итоге источники счастья или несчастья, которые были раньше в вещах, теперь переходят в мою собственную душу. И я не завишу от окружающего, от того, какой будет среда, все ли будут хорошими и т д. Эта способность к одиночеству и выполнение своего пути в мире с риском, со страхом и с трепетом и есть мотив и стержень того, что я называю героическим искусством, проблема которого вдруг стала всеохватывающей и актуальной в начале XX века. И, оказывается, они были правы, что думали об этом и говорили. В 1914 году начался первый эпизод европейской драмы, то есть первая мировая война, но она опять ничего не принесла, потому что уроков не извлекли. Единицы извлекают уроки, а исторические массы их с большим трудом извлекают. И потом, когда не извлекли уроков, все то же самое повторилось в большем масштабе во второй мировой войне, которая не сузила ареал варварства, а расширила его. Завершая этот пассаж, я приведу очень странное определение. Вы знаете, как определяли греки варваров, то есть как они отличали сами себя от варваров? Варвар для них не был… как бы сказать? – это не было ценностным определением. Сказать «варвар» не значило сказать «плохо», «хорошо». Греки с большим почтением относились к персидской империи. Они видели многие достоинства и силу этой империи, но считали их варварами. По какому признаку они отличали себя от всего окружающего мира? Варвар – это тот, у кого нет языка. Вот поди и пойми это утверждение… потому что ясно ведь, что у персов был язык – персидский. Что значит – язык? Публичная артикулированная и на общественном месте стоящая мысль. Не у тебя внутри, не в твоем языке – артикулированное тело. Язык, на котором можно спорить, предъявлять свои права, то есть имея гражданские права, за которые ты ответствен, – потому что ты не просто имеешь право участвовать в общественной жизни, в общественных делах, а ты обязан, в греческом понимании, участвовать в общественных делах, и именно поэтому ты называешься гражданином. (Сознание, которое отсутствует, например, у тбилисского жителя. Начисто отсутствует. Я сейчас не говорю о том, что отсутствуют права, я говорю, что у него отсутствует это сознание.)
265
Poems of William Blake. The Prophetic Books / Ed. by W.B.Yeats, London. 1979,