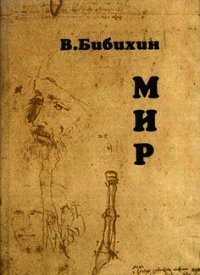Другое начало - Бибихин Владимир Вениаминович (книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Многие, похоже, тем более нуждаются в гармонии сознания, что не готовы посмотреть прямо на самих себя. Так 2 июня 1989 года на Съезде народных депутатов разгневалось условное большинство, раздосадованное упрямым академиком Сахаровым, который говорил о расстрелах в Афганистане с воздуха нашими наших же, попавших в руки противника. Спокойно выслушать его значило задуматься над тем, о чем у нас мало думают именно потому что слишком явственно ощущают. Каждый человек в России с кровным знанием ее власти и ее армии может быть уверен, что в условиях военных действий будет существовать и будет доведено до всех распоряжение выручать попадающих в плен, но в нем не будет пункта, требующего в случае угрозы для спасаемого из плена считать первоочередной ценностью сохранение его жизни. Подобным образом антитеррористическому отряду не ставят в нашей стране первой задачей сначала сбережение жизни заложников, пусть даже ценой угона транспортного средства или потери лица. Такова наша реальность, от ЧОНа и заградительных отрядов двух войн, от расстрела нашими наших окруженных под Киевом в 1941-м до смертной казни за экономические преступления. Взглянуть здесь на себя в упор у нас пока нет сил. Тем нужнее нам все покрывающий лад и тем тяжелее ложится наш судящий взгляд на чужом, нарушителе гармонии. Мы начинаем видеть в нем то, что не хотели заметить в себе.
2. Кроме карты и календаря, на которых найти себя нетрудно, есть наше место в мире, которое, все знают, надо долго искать. Мы наследники Византии с ее государственной эстетикой, заботой об икономии, том же ладе. С другой стороны, Византия для нас уже не существует в более непоправимом смысле чем древний Рим для Запада: она дальше от нас по языку, юридической системе, философии. Наша государственность родилась в Скандинавии, но утвердилась в отталкивании от деспотий Востока. Московия«христианизированное татарское царство». Мы много раз сближались с Западом и до сих пор почему-то не совсем сблизились.
Западная Европа вышла из Средних веков не столько национально-культурно-политическим образованием, сколько историческим начинанием, ренессансом, замыслом апокатастасиса, восстановления человека и целого мира в его истине. Что бы ни говорилось со стороны, Европа до сего времени в своем существе не одна из мировых культур, а продолжающаяся память о той предельной задаче.
У нас в XIX веке Карамзин, Пушкин, Чаадаев подтвердили, что поэзия и мысль России присоединились к начатому Европой делу восстания человека. Ренессанс не просто был перенят Россией, он укоренился в нашей почве, стало быть заранее имел для себя в ней почву. Россия издавна была не нацией, а исторической задачей; русские с самого начала не самоназвание народа, а имя исторического предприятия. И в предприятии ренессанса Россия нашла себя как нужный, если не ключевой момент. Воссоединение с Ренессансом приняло у нас черты ревнительства, соревнования в убеждении, что без нас нельзя, без нас не вся правда.
Кто мы — слишком большой вопрос, к которому трудно даже подойти. Разрешим себе только одно осторожное предположение. Особенность нашего государственного существования сказалась с самого начала и продолжает давать о себе знать в том, что за человеком у нас мало признается право на частное, по своему человеческому разуму обустройство на земле. Причина запрета, похоже, не столько в недоразвитии чувства личности или в недостатке достоинства, сколько в, если хотите, мудром знании, что никакое самоустройство человека на земле все равно по-настоящему не устроит. Отсюда, возможно, и всегдашняя слабость нашего самоуправления, и наша уникальная централизация, построенная на уступчивости местной общины. Сюда же надо отнести и редкостную, в сравнении с другими большими странами, одинаковость образа жизни и языка на всей территории. Уважение к целому, стремление к единству возникло сразу при образовании нашего государства едва ли не в порядке поляризации, отталкивания от прямо противоположного типа государственности. Ведь там, откуда по преданию была приглашена власть в Новгород, навыки самоуправления были наоборот самыми прочными в Европе или вообще где бы то ни было.
Воздержание от самоустроения произошло у нас явно не на почве несамостоятельности отдельного хозяина. Как раз способность русского крестьянина не зависеть даже от, казалось бы, обязательных экономических связей, обеспечить себя и выжить в нечеловеческих условиях, сохранив при этом человечность, имеют себе тоже мало равных. Отказ от самоустроения можно считать не вынужденным, а добровольным решением земли. И наша государственность воссоздавала себя на протяжении столетий потому, что народ, терпя и ожидая, оставлял место тому, что надежнее всякой человеческой изобретательности. Как на Западе центральная власть держалась и держится устойчивостью местного порядка, так у нас — вольным или тайным согласием общества с тем, что устроение земли больше чем человеческих рук дело. Мир должен устроиться по-божески или никак. Оставим пока вопрос о том, сколько здесь от Востока. В целом для Востока у нас опять слишком мало традиционности. Это не значит конечно что неустроенность надо возводить в наше достоинство. Она никогда не устраивала прежде всего нас же самих.
Всякая власть, оказывающаяся всего лишь местной, в собственных глазах видит себя у нас не совсем уместной и готова уступить более высокой. Поэтому обладателем власти выходит в конечном счете тот, кто не разоблачает себя — или по крайней мере не сразу разоблачает — как носитель всего лишь частных человеческих интересов. В общественное устройство встроена метафизика, в том смысле что метафизике тут заранее отведено завидное место. Эта встроенная метафизика отрицает способность человека устроить на земле своими силами самого себя. В порядке дурного следствия правоправность самоустроения не только своего, но и других народов не признается нами до конца. В той мере, в какой они хотят просто самоопределиться, они в наших глазах теряют.
Власть у нас может поэтому и не считать своим долгом посильное устроение земли. Земля готова долго терпеть. С другой стороны, власть всегда стоит перед лицом этой встроенной метафизики в трудной обязанности истолковывать многозначительное молчание, нависающее над неустроенной страной, — не просто выжидательное и неопределенное, наоборот, скорее полное решимости. Молчание и обращение всех к середине страны, откуда ждут слова правды, — это почти нечеловеческий вызов, с которым приходится иметь дело тем, в чьих руках оказывается власть. Власть по существу не такая вещь, чтобы осмысленно ответить на подобный вызов. Слово власти оказывается у нас поэтому как правило оговоркой, оговором, заговариванием. Важной оговоркой были произнесенные в 1917 году слова «есть такая партия», т.е. есть такая вооруженная мировоззрением группа, которая способна взяв власть отвечать историческому замыслу страны. Продиктованные активизмом эпохи, те слова звучали в желательном наклонении, но в порядке оговорки скользнули в изъявительное. Их хватило на десятилетия власти, уже не нуждавшейся в том чтобы делать новые оговорки. Другой реформатор сказал: «Коммунизм — дело рук народа». Этот оговор на новые десятилетия оправдывал терапевтическую опеку над таким народом. Еще реформатор и еще одна оговорка: «Мы взяли власть в руки народа». Ее особенность в том, что оставаясь оговоркой она вместе с тем и точная формула. Власть у нас обречена на оговорки, оговоры и заговаривание именно потому что как нигде призвана быть безоговорочной. Только безоговорочная истина была бы способна отвечать молчанию земли. Но в своих попытках быть безоговорочной власть сбивается на разрушительную жестокость. По-настоящему дать слово молчанию мира способны только мысль и поэзия. Отсюда их постоянное пересечение у нас с властью, в отличие от Запада, где власть и поэзия научились ходить своими разными путями.
Правда нашей страны много и подолгу молчит и часто косноязычит. Она жестоко страдает от оговорок и оговоров власти. Ее заговаривают все, кто хочет устроиться как все. При всем том мысль в России нашла себя и приобрела особенный размах, до сих пор мало нами осмысленный. Она вобрала в себя встроенную метафизику народа, который до всякого знания знает, что земля не для человеческого самообеспечения; что человек, устроивший себя на ней, все равно себя не устроит и устроит не себя. Именно это знание сделало ревностным наше отношение к делу Европы. Мы вызов тому Западу, каким ему всегда грозит оказаться, делом чисто человеческого обустройства на земле. Мы, так сказать, для того чтобы этого не случилось. Наша правда в том, что мир, который все равно никогда не был и никогда не станет человеческим устройством, на метафизику обречен. Мы можем сказать: Россию, какой она сложилась и какой до сих пор она еще остается, устроит только мир. Мы взвешены между двумя совсем разными, одним страшным, другим обещающим смыслами этой правды. Только в мире разрешится наше никого, прежде всего нас самих не устраивающее нестроение. Дело поэтому вовсе не в модернизации и не в том чтобы догнать Запад или Америку. Потому что, похоже, мы скорее готовы увидеть правду в конце мира чем в простом приспособлении к нему.