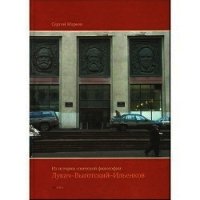Драма советской философии. (Книга — диалог) - Толстых Валентин Иванович (книги онлайн бесплатно .TXT) 📗
Ирка, ты помнишь есенинское — «я спросил сегодня у менялы»… — оно вдруг мне вспомнилось сегодня.
Я теперь тебя понимаю, как никогда раньше. Эх, слышала бы ты, как я себя кляну!
P.S. Сейчас адрес мой — 13335»К» — но боюсь, что долго здесь не буду. Пиши по старому адресу — 36538–Г!
29.2.44.
Сейчас получил сразу два твоих письма. Так радостно стало на душе! Вся злость на себя сразу пропала. Стал я аж сам себе казаться хорошим (хоть, между нами, зря).
Наконец выгнали из части, где приходилось заниматься с утра до вечера канцелярщиной. Конечно, с одной стороны это плохо — труднее будет вырваться в отпуск. Но не беда. Везло всегда, повезет и впредь. Вот одно досадно — еще тогда на сутки в Москве не остался — пошли бы Берлиоза слушать. Все равно — за семь бед — один ответ — бутылка шампанского…
Да… (мда — а!..) Вчера я еще плевался и кусал себе губы от злости на себя, а сегодня опять «жизнерадостно смеюсь», хоть ты и не советуешь…
30.3.44.
Я уж совсем крест на тебе поставил — ну, думаю, где — нибудь в Бесарабии, румын допрашивает… И только послал твоей маме открытку — где, мол, Ирка, — приносят от тебя письмецо. Я уж третью неделю командую взводом. Ношу на рукаве такой же значок, как у тебя на кармане — только побольше — знаешь, что это значит? Ну, не беда, это, может, только временно… До чего же трудно взводом командовать! Мне тут уж и арестов пообещали… Я то, правда, не унываю. Все обойдется.
Ты только пиши мне почаще и побольше! И обязательно фотографию пришли. Я сейчас куда больше нуждаюсь в ласковом от тебя слове, чем там, в городе, где я всю зиму сидел… Целый день кручусь, как заводной: то лошади мои грязные, то пушки заржавели, то в землянках вода по колено. Вот сел я тебе писать — уж зовут: занятия проводить нужно…
Получила ты все мои письма? Я написал не то 3, не то 4 штуки. И два из них — длинные, не то, что ты написала. Ты смотри, не злоупотребляй этим, сатана! Вот с бумагой у меня дефицит. Не на чем писать. Почему — расскажу, если приеду. Ты, в общем, не горюй — жди 3–х звонков. Из одной переделки я уж вышел благополучно, только что сумку полевую пришлось бросить. Вот уж я и проболтался насчет дефицита в бумаге. Ну ладно, расскажу после…
28.5.44. Москва.
Я в Москве, такой пустой и никчемной без тебя… Меня все время не покидает чувство, похожее на то, которое охватывает, когда ждешь без дела долго не прибывающий поезд. Ни на месте не сидится, ни заняться ничем не могу. Ходишь — ходишь, как Агасфер, так и тянет к бутылке. Это я перед тобой оправдываюсь на тот случай, если твоя мама напишет тебе, что «Вальдек окончательно пропащий человек, которого среда заела и с которым знакомства лучше не водить»… Никак я не пойму, за что она меня так мучает. Я приду тихо — мирно на фотографию твою посмотреть, а тут и начинается…
То я фуражку в комнате забыл снять, то локти на стол положил, то еще чего — нибудь… Вот представь себе картину: сижу я на стуле, руки не знаю куда девать — потому что обязательно сделаю не так — и смотрю жалобными глазами на Марию Ильиничну. А она с жестоким наслаждением обучает хорошим манерам. И никак не убежишь… Век бы не приходить! А только «куда ни поеду, куда ни пойду», все меня на Кузнецкий мост и тянет… Беда, да и только… А ты на все это спокойно смотришь со стенки, да еще премило улыбаешься…
Думал я, что тянет меня в этот дом пыток только фотография твоя; взял да и стащил потихоньку. Так нет же, опять пришел мучиться.
Ирка, приезжай, помоги! Отвлеки на себя хоть часть этой воспитательной работы!
Сегодня пойду слушать 7–ю симфонию. Досижу до конца, или опять тоска нападет? — Я позавчера пошел «Травиату» слушать. Так еле до конца 1–го акта досидел. Ушел — и на Кузнецкий д. № 4… (не то третий, не то 4–й раз за тот день).
Только здесь, три дня назад, узнал о тебе поподробней — где ты, что ты, как доехала, адрес… Перечитал письмо за письмом всю твою Одиссею.
Сейчас я в Москве вроде надолго. Дела хлопотные — отправляю людей, вышедших из починки. Очень хлопотное дело…
25.06.44.
Вот и наше «болото» зашевелилось. Правда, это для тебя уже будет известием двухмесячной давности — твои письма шли до меня ровно 2 месяца… А ответ на это письмо получить удастся не раньше, чем в сентябре — октябре. Долго ждать. Так что ты хорошо делала, что писала, не дожидаясь моих посланий (ты уж прости, что я так самоуверен…)
Что касается твоей работы — то что же, это лучший из возможных вариантов. Правда, не знаю, как она тебе по душе придется. Я в подобном учреждении проработал 2 недели зимой, а потом так надоело, что постарался, чтобы меня оттуда выпроводили.
И вот попал я туда, где нахожусь до сих пор. Работа никак мне не по душе. Люди, с которыми все время имею дело — малоинтересные, поговорить, помечтать — не с кем. Правда, среди тех, кто приходят и уходят, попадаются очень и очень люди хорошие, изредка отведешь душу, но это, конечно, не то… Кроме того, это очень не нравится людям в чинах подобных моему, делает мои с ними отношения еще более холодными и натянутыми.
Уж как я просил отправить меня куда — нибудь — ни в какую…
Так что настроение такое, что хоть прямо вешайся, либо стихи пиши… А пока что читаю и перечитываю томик Лермонтова, что прихватил из Москвы. Хороший или плохой это признак — то, что он мне очень сейчас по душе — заключать не берусь.
Так хочется большого, настоящего дела! Это переливание из пустого в порожнее, чем я тут только и занимаюсь, осточертело до такой степени, что словами не опишешь.
Мне очень досадно, что письма мои к тебе выходят вовсе не такими, каких бы я хотел тебе слать. Порой, чаще всего вечером, охватит вдруг такое настроение, что кажется, только бери карандаш и пиши страницу за страницей тебе, сядешь за стол, зажжешь коптилку, да так и просидишь перед чистым листом бумаги весь вечер… Все думаешь, думаешь….
3.08.1944.
Не сердись, что так редко балую тебя письмами — но — честное слово, я виноват меньше всего. Ведь ты слышала, каким вдруг обернулось наше болото. За эти дни я много приключений пережил, оттопал пешком столько, что и считать бросил, был в переделках, жил у партизан — всякие истории.
Командую я подразделением на ранг выше старого, так что тоже тебе не мешает проникнуться уважением!
А писать — ну просто нет времени. Вот отца наградили орденом — а я ничего так и не смог написать ему. Тебе первой пишу. А дома так и не знают, где я с тех пор, как я там был, еще до наступления.
Вот и все. Коротко время, коротко и письмо. Да только еще домой сегодня надо черкнуть, а завтра тронемся дальше и дальше, в Польшу.
23.10.44.
Теперь я, наконец, там, где должен быть. Теперь у меня значительно меньше шансов остаться в живых, а невредимым — вовсе, можно сказать, исключены, эти самые шансы… Но настроение (хотя, по правде сказать, то, что называется «настроениями», надо мной имеет мало власти), лучше, спокойней, чем до этого. Исчезла та неудовлетворенность, та беспредельная тоска, которые всегда возникают, когда некоторое время побудешь в вынужденном безделье, в работе, ненужность которой ясна как божий день…
Немцы упорны, за их спинами — их дома. Они цепляются, закапывают в землю танки, бьют и день и ночь из орудий, в каком — то слепом отчаянии. Они стали уж тут, на пороге своих жилищ, совсем безумными от страха перед расплатой.
Много впереди работы… Но зато, если вернусь, у меня будет право честно смотреть тебе в глаза, Иринка… Ну, а если не вернусь — теперь каждое мое письмо может оказаться последним — вспоминай обо мне изредка. И прости, если письмо, которое я написал после смерти Яшки, тебе не понравилось. Ладно?
P.S. Только ты в Москву не пиши обо мне ничего. Я туда написал в дипломатическом тоне…
6 ноябрь 1944.
Ирка, ура, ура, ура!!! Ты в Москве!!!
Сижу и смеюсь без причины, а этого уже давно не было. Были одни огорчения да трудности, ничем не скрашиваемые, а теперь, хоть путь мой дальнейший во сто раз труднее, я буду идти с легкой душой, зная, что ты дома, что тебе не грозят нелепые злые случайности.