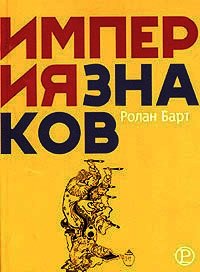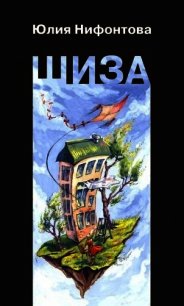Силы ужаса: эссе об отвращении - Кристева Юлия (читать книги онлайн без сокращений txt) 📗
На вопрос «почему?» возможен в то же время и второй ответ, указывающий не только на позже придуманное abject, но и с первых, семиотических работ интенсивно использованное понятие «русскости» (в виде философии телесного низа Бахтина или экстатически-революционного языка русских формалистов), с самого начала направленные — тем самым — против западных дискурсивных норм и для которых Кристева позже, кроме «выблевывания» (материнского тела) вводит специальное понятие «матереубийства», также спровоцировав определение себя как «вульгарной болгарки». Понятие «матереубийства», собственно, указывает на две основные характеристики кристевского понимания субъективации: во-первых, отторжение/«выблевывание» гегелевского универсального (не только «материнского»- как символа универсального, но и, например, «западного»/рационального как его формы) в пользу партикулярного, частного и частичного («симптома» как характеристики не только гениального, уникального и неповторимого художественного творчества в ситуации отсутствия всякой гарантии со стороны универсального [32], но и всех других возможных партикулярных, «уникальных и неповторимых», стратегий идентификации — женских, русских, болгарских, марксистских, революционных, «вульгарных», маоистских, мигрантских и т. п.); во-вторых, указание на травматический — насильственный и болезненный — характер этого симптомально-частичного отторжения/«выблевывания»/субъективации (метафора «выблевывания» и должна подчеркнуть насильственный травматизм отторжения частного от универсального со всеми его «ужасами»). Такие типы дискурса, которые в той или иной степени промысливают ситуацию антисимволических особенностей субъективации и дискурсивную ситуацию насилия (и для которых Кристева использует понятие «матереубийства»), становятся особенно актуальными в современной культуре, что связано, возможно, с ее основным парадоксом: по видимости толерантный мир мультикультурализма и политкорректности вызывает в то же время самую необоснованную и неутилитарную жестокость. И именно для них в современной философии вводится понятие «непристойных» [33] — для характеристики дискурсивной сущности насилия в двух его проявлениях: 1) как неписанное «непристойное дополнение» к существующему символическому порядку (критические дискурсы современности в этом контексте чаще всего «разоблачают» западную интеллектуальную культуру, о которой «мы хотим знать, но боимся спросить», за Лаканом обнаруживая в ней, например, Хичкока) и 2) как прямое эксцессивное насилие (примерами которого чаще всего является «восточная», тоталитарная культура, о которой, перефразируя, «мы боимся знать и не хотим спросить»). Кроме того, позиция «матереубийства» в философии Кристевой указывает и на особый статус субъективности, находящейся в ситуации между — между влечением к смерти и спонтанным рождением из ничего, когда, субъект видит (или делает) себя страдающим. Не случайно идеальной фигурой субъективности у Кристевой оказывается трагическая фигура изгоя-художника, интеллектуала (в том числе женщины-интеллектуалки), диссидента — всех тех, кого она, по аналогии с названием романа, называет самураями — «осуществляющими революцию» и, поэтому, «принимающими на себя огромный телесный и духовный риск». [34]
В этом смысле философия «материнского» Кристевой, являющаяся ни чем иным — наравне с другими критическими дискурсами современности, такими как феминизм или постколониализм — как производством «другости» (говорящего/блюющего субъекта, семиотического/ритмического/поэтического языка и т. п.), является безусловно политической философией — но отнюдь не в смысле действительно имевшего место у Кристевой анализа актуальных политических тем (например, темы диссидентства в Восточной Европе в эссе Новый тип интеллектуала: диссидент или темы феминистских политик сопротивления в эссе От Итаки до Нью-Йорка). Радикальным жестом таких типов дискурсивного производства является, во-первых, признание субъектом себя «другим» (в частности, abject), а значит, во-вторых, вменение симптомальных («уникальных и неповторимых») различий «другости» в качестве универсальных — в противоположность постмодернистским стратегиям постполитической антиуниверсалистской толерантности к частному и частичному. Выдача же особенных интересов в качестве всеобщих и есть, по словам Славоя Жижека, процедура политизации как таковой — что демонстрируют как одна из самых знаменитых мировых политических философий — философия Маркса, так и практика маоизма, столь активно вменяемые молодой болгаркой Кристевой — «парижскому духу» культуры. Кристева прямо пишет о том, что, в частности, психоанализ, столь значимый для ее жизненной практики [35], нужен ей для того, чтобы заниматься частным, судьбой и т. п., потому что только на этой основе — совсем в духе советского диамата — можно, по ее мнению, понять всеобщее; и будучи, по иронии судьбы, по приглашению Рене Жирара американским профессором со времен Вьетнамской войны в Колумбийском Университете, критикует «американизированное» всеобщее, конституирующееся на основе обезличивания всякого особенного и партикулярного (например, в культурной и политической оппозиции Европа-Америка подчеркнуто стоит на стороне Европы, а в оппозиции Франция-Болгария, которую сама же и создает, подчеркивает уникальность «болгарского страдания», которое Франция «никогда не сможет понять», так как это всегда будет за пределами понимания «парижского духа»; «французская культура, — пишет Кристева, закрывает глаза на муки бывшей коммунистической империи и не способна понять литературу о боли…» [36]).
В философской стратегии акцентации «другости» проблематика Кристевой вполне вписывается в философские стратегии новых политик идентичности, которые появились в философии в последние годы и связаны с проблематизацией «расы, класа, тендера» (куда и относятся феминизм и постколониализм) и к которым Кристева принадлежит по всем формальным параметрам: про расу у нее — книга Нации без национализма, про тендер и отчасти про класс — уже упомянутые Женское время, Новый тип интеллектуала… и другие работы, суть которых состоит в артикуляции проблемы сопротивления — так же как артикуляции особенного, партикулярного в условиях глобализации (антигегелевский пафос Кристевой еще со времен «Революции поэтического языка») и трактовка субъекта как жертвы со своими аффирмативными действиями через форму радикализма как форму «невозможного требования». Собственно, кристевское abject/отвратительное и есть понятие для обозначения жертвы (ведь понятие «матереубийства» может трактоваться в двух смыслах — не только как «убийство матери», но и как «убийство матерью», убийство субъекта «силами ужаса», потому что реальное состояние кристевского субъекта — это трагический прыжок «из ничего», от нулевой точки влечения к смерти к семиотическому производству творящей субъективности; и хотя идеальной фигурой/жертвой для Кристевой является художник, но позиция жертвы/abject является основной позицией структуры субъекта в ее философской системе в целом). Не стоит упускать из виду, что само понятие abject в современной философии имеет двойственную коннотацию: означает некое «исключительное» не только в смысле его ненормативной/«уникальной» дискурсивной природы (метафор субъекта-художника или «выблеванной матери» у Кристевой), но и реальную исключенность из социального порядка (женщины, безработные, нищие, иммигранты, национальные меньшинства, больные СПИДом, жители бывшего СССР, квир и т. д. и т. д. [37]). Собственно, отторжение матери, то есть лишение/депривация, то есть превращение в жертву инициирует у Кристевой вхождение говорящего бытия в язык.