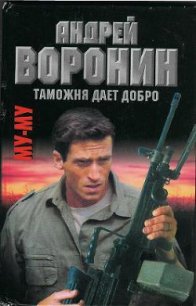Бунтующий человек - Стефанов Юрий Николаевич (книги без регистрации .TXT) 📗
Начиная со Штирнера, отрицание, воодушевляющее бунт, погребает под собой все утверждения. Оно отбрасывает суррогаты божественного, которыми засорено моральное сознание. „Потустороннее вне нас уничтожено, — заявляет Штирнер, — но потустороннее в нас стало новым небом“. Даже революция, и в первую очередь революция, ненавистна этому бунтарю. Чтобы быть революционером, надо еще во что-то верить там, где верить не во что. „Когда после революции (французской) наступила реакция, то выяснилось, чем в действительности была Революция“. Рабски служить человечеству ничем не лучше, чем служить Богу. В конце концов, братство „бывает у коммунистов только по воскресным дням“. В остальные дни недели братья становятся рабами. Для Штирнера есть лишь одна свобода — „моя мощь“ и лишь одна правда — „сиятельный эгоизм звезд“.
В этой пустыне все снова расцветает. „Величайшую значимость бессмысленного крика радости не понять, пока длится долгая ночь мысли и веры“ Эта ночь близится к концу, скоро займется заря, но заря не революции, а восстания. Восстание само по себе — это аскеза, отвергающая всякий комфорт. Восставший будет единодушен с другими людьми только в той мере и на то время, когда их эгоизм будет совпадать с его эгоизмом. Его подлинная жизнь — одиночество, в котором он беспрепятственно утолит жажду бытия, являющуюся его единственным бытием.
Таким образом, индивидуализм достигает своей вершины Он есть отрицание всего, что отрицает индивида, и прославлением всего, что возвышает индивида и служит ему Что такое благо по Штирнеру? „То, чем я могу воспользоваться“ А что мне по праву дозволено? „Все, на что я способен“. Бунт еще раз приходит к оправданию преступления. Штирнер не только сделал попытку такого оправдания (в этом смысле его прямыми потомками оказываются все, исповедующие террористические формы анархии), но и был явно опьянен открытыми им перспективами.
„Разрыв со святыми или, вернее, уничтожение святого может стать всеобщим. Близится не новая революция, а могучее, беспощадное, бесстыдное, безоглядное, надменное преступление. Разве ты его еще не слышишь в раскатах отдаленных громов, не видишь, как небо, тяжелое от предчувствий, молчит и хмурится?“ Здесь чувствуется мрачная радость тех, кто в мансардах готовит апокалипсисы. Ничто больше не в силах сдержать развитие этой желчной и властной логики — ничто, кроме „я“, которое, восстав против всех абстракций, само стало абстрактным и невыразимым, поскольку обрубило собственные корни. Нет больше ни преступлений, ни грехов, а стало быть, нет больше грешников. Все мы совершенны. Поскольку каждое „я“ как таковое преступно по отношению к государству и народу, следует признать, что жить — значит преступать границы. Во всяком случае, если идешь на убийство, чтобы быть единственным. „Вы не столь значительны, как преступник, вы, ничего не оскверняющие“. Не совсем утратив совесть, Штирнер все же уточняет: „Убивать их, но не мучить“.
Но декретировать право на убийство — значит объявлять мобилизацию и войну всех Единственных. Убийство, таким образом, совпадает со своего рода коллективным самоубийством. Тем не менее Штирнер, который ничего этого не признает или не видит, не останавливается ни перед каким разрушением. Одно из самых горьких своих утешений бунтарский дух находит наконец в хаосе. „Тебя (немецкий народ) похоронят. Вскоре твои братья, другие народы, последуют за тобой. Когда все они уйдут, человечество будет погребено, и на его могиле Я, его наследник, наконец-то буду смеяться“. Таким образом, на руинах мира горький смех царственного индивида возвестит окончательную победу бунтарского духа. Но на этом пределе возможны только смерть или возрождение. Штирнер, а вместе с ним и все бунтари-нигилисты стремятся дойти до последних границ, хмелея от безоглядного разрушения. Но, открыв пустыню, нужно научиться выживать в ней. И Ницше начинает свой изнурительный поиск.
НИЦШЕ И НИГИЛИЗМ
„Мы отрицаем Бога, мы отрицаем ответственность Бога; только так мы освободим мир“. Похоже, что у Ницше нигилизм становится пророческим. Но если в его творчестве выдвигать на первый план не пророка, а клинициста, то из его произведений не извлечешь ничего, кроме заурядной низкой жестокости, которую он всей душой ненавидел. Провидческий, методический, одним словом, стратегический характер его мысли не подлежит сомнению. У Ницше впервые нигилизм становится осознанным. У хирургов и пророков есть то общее, что они мыслят и действуют с расчетом на будущее. Все размышления Ницше были связаны с грядущим апокалипсисом, но он не воспевал его, так как предугадывал, что в конце концов апокалипсис примет гнусный деляческий облик, а стремился избежать его, преобразив в возрождение. Ницше распознал нигилизм и исследовал его, как исследуют клинический случай. Он называл себя первым законченным нигилистом Европы. Не по пристрастию, а по состоянию духа и еще потому, что был он слишком значительным мыслителем, чтобы отвернуться от наследия своей эпохи. И себе самому, и другим он поставил диагноз: бессилие верить и потеря изначального фундамента всякой веры — доверия к жизни. Вопрос: „Можно ли жить бунтом?“ — превратился у него в вопрос: „Можно ли жить, ни во что не веря?“ Ницше дает утвердительный ответ. Да, можно, если отсутствие веры превратить в метод, если вывести из нигилизма его крайние следствия и если, пролагая в пустыне путь грядущему и встречая его с доверием, испытывать при этом первобытное чувство боли и радости.
Вместо методического сомнения Ницше использовал методическое отрицание, усердное разрушение всего, что позволяет нигилизму прятаться от самого себя, ниспровержение идолов, скрывающих смерть Бога. „Чтобы воздвигнуть новый храм, нужно разрушить — таков закон“. Тот, кто хочет быть творцом добра и зла, сначала должен стать разрушителем и уничтожить прежние ценности. „Таким образом, высшее зло составляет часть высшего блага, а этим высшим благом является творец“. „Рассуждение о методе“ своего времени Ницше написал по-своему, без тех свободы и ясности, свойственных французскому XVII в., которыми он так восхищался, но с проницательностью безумца, присущей XX в., который он считал веком гениальности. Этот ницшевский метод бунта нам и предстоит изучить. [8]
Итак, первый шаг Ницше — согласиться с тем, что он знает. Атеизм для него нечто само собой разумеющееся; он „радикален и конструктивен“. Если верить Ницше, то его высшее предназначение в том, чтобы спровоцировать своего рода кризис и дать окончательное решение проблеме атеизма. Мир движется наугад, у него нет конечной цели. Бог тогда бесполезен, поскольку он ничего не хочет. Если бы он чего-либо хотел — а в этом узнаваема традиционная формулировка проблемы зла, — на Бога следовало бы возложить ответственность за „ту сумму страданий и бессмыслицы, которая снижает общую ценность становления“. Известно, что Ницше не скрывал своей зависти к Стендалю, которому принадлежит формулировка: „Единственным извинением Богу служит то, что он не существует“. Лишенный божественной воли, мир в равной мере оказался лишенным единства и цели. По этой причине мир не подлежит суду. Всякое ценностное суждение, применяемое к нему, в конечном счете оборачивается клеветой на жизнь. В таком случае о том, что есть, судят в сопоставлении с тем, что должно быть, — с царством небесным, с вечными идеями или с моральным императивом. Но того что должно быть, не существует; этот мир нельзя осуждать от имени „ничто“. „Преимущества нашего времени: ничто не истинно, все дозволено“. Этих высказываний, отражающихся в тысячах других, торжественных или ироничных, достаточно во всяком случае для доказательства, что Ницше взвалил на свои плечи все бремя нигилизма и бунта. В своих рассуждениях, впрочем ребяческих, о „дрессировке и отборе“ он выразил крайности нигилистической логики: „Проблема: какими средствами достижима строгая форма великого заразительного нигилизма, который вполне научно проповедовал бы и практиковал добровольную смерть?“
8
Само собой разумеется, что исследовать здесь мы будем последний период творчества немецкого философа, с 1880 г. до его помешательства. Данную главу можно рассматривать как комментарий к тексту "Воля к власти"