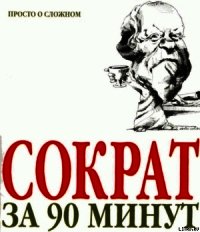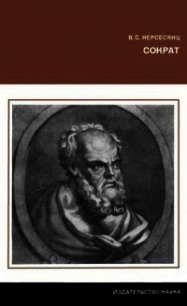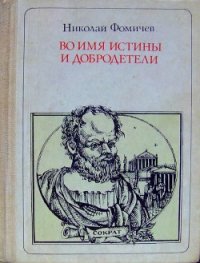Сократ и Мы - Толстых Валентин Иванович (бесплатная регистрация книга .txt) 📗
Тайна любви – где она? Ни в теле, ни в душе, хотя и то и другое участвуют в этом таинстве.
Иртенев стал жертвой отнюдь не дуализма "тела" и "души", не состязания природноестественного начала с духовным, нравственным началом по принципу "кто кого?", и даже не чувства, которое само по себе прекрасно и плодотворно для человека, его испытавшего, но своей неспособности ответить на это чувство.
Способность любить по-человечески не задана, не "запрограммирована" заранее, от рождения, и имеет в качестве своего природного истока лишь биологическую предпосылку, которую еще предстоит "очеловечить". Но это не значит, что развитие способности любить представляет собой процесс облагораживающего воздействия духа на тело, или воспитание тела духом. Процесс превращения любого живого чувства или инстинкта в человеческое есть фрагмент, частичка общего процесса рождения человеческой психики (духа, сознания) в неразрывном единстве с развитием самого "органического тела". В этом смысле требования и поведение "тела" столь же симптоматичны и показательны, как и невидимая, скрытая реакция, работа "души". Беда, драма Иртенева началась с того момента, когда он почувствовал (а потом и понял), что захватившая его страсть нечто иное, чем зов инстинкта. Но готовый отдаться этому чувству и телом и душой, он не может этого сделать, зная, что находится в среде и системе отношений, в которых никто и никогда не поймет и не разделит его страсти.
Короче, он жертва определенного воспитания, при котором ни "тело", ни "душа" в равной мере не способны любить. Кавычки тут совершенно необходимы, ибо, строго говоря, любит не "тело" и не "душа" – любит человек, обладающий телом и душой. В том и суть дела, что "никакого взаимоотношения между "душой" и "телом" человека нет и быть не может, ибо это – непосредственно – одно и то же, только в разных его проекциях, в двух его разных измерениях…" [Ильенков Э. Что же такое личность? – С чего начинается личность, с. 332.] Точность этого философского суждения буквально иллюстрирует драматическая история любви толстовского героя.
Способность любить, аккумулирующая в себе воспитанность тела и души, находится в самой тесной зависимости (к сожалению, не всегда улавливаемой и учитываемой в должной степени) от характера и уровня развития культуры, особенно нравственной, от образа жизни данного общества и его системы ценностей. Поэтому разговор о любви неизбежно становится разговором о человеке и обществе, которому он принадлежит. Когда Толстой, заключая повесть, взял под защиту чувство своего героя и предложил – тем, кто сочтет Иртенева душевнобольным, – повнимательнее всмотреться в себя, он, надо признать, глядел далеко вперед.
"Идея, попавшая на улицу"
Человечество нашего времени точно зацепилось за что-то. Точно есть какая-то внешняя причина, мешающая стать ему в то положение, которое ему свойственно по его сознанию.
Л. Н. Толстой
"Я, право, не абстрактный моралист, мне ненавистно всякое аскетическое уродство, никогда не стану я осуждать грешную любовь, но мне больно, что строгая нравственность грозит исчезнуть, а чувственность пытается возвести себя на пьедестал" [Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 41, с. 119.]. Это сказано Ф. Энгельсом более века тому назад в адрес проповедников "практической эмансипации плоти" [Там же.]. Предостережение оказалось пророческим.
Чувственность, заявляющая себя открыто и рвущаяся наружу, может быть признаком пробуждения человеческих сил, задавленных догмой изживших себя моральных норм. Как, например, в эпоху Возрождения, когда здоровая человеческая чувственность празднует свое торжество над аскетизмом церковной морали.
И она же, чувственность, предстает в форме расслабленного эпикурейства там, где, достигнув известной ступени в развитии культуры, общество оказывается неспособным (по причинам не только этическим) обеспечить расходование жизнедеятельных сил человека надлежащим образом. Как, например, во времена императорского Рима, где распущенность нравов достигла чудовищных размеров, а император Август попытался даже возглавить пуританское движение, издав серию поощряющих браки, ущемляющих холостяков законов, направленных против адюльтера и разводов. И Древний Рим и Возрождение "торопились" жить, но качественно различным был моральный тонус и жизненастроение двух эпох.
В буржуазном обществе культ чувственности достигает поистине глобальных размеров, становится статьей коммерции и ходовым товаром капиталистического производства, материального и духовного. Культивирование в масштабах всего общества так называемого "раскованного стиля жизни" есть результат пересадки на человеческую почну идеи животных инстинктов.
Идея нехитрая, даже примитивная, но предлагается ныне на Западе в виде панацеи от всех бед и проблем, воспроизводится открыто, поточным индустриальным методом, с включением всех рычагов гигантской промышленной машины. Распродажа человеческой чувственности идет в обертке "сексуальной революции", под знаком борьбы за равноправие женщины в любви и брачном союзе, оправдывающей полигамию (смену партнеров в супружеских отношениях), утверждающей право на супружескую неверность, "открытый" брак, групповой секс, внебрачные связи и т. д.
Нравы, исповедующие принцип "вседозволенности", неотделимы от потребительского образа жизни, а секс – одна из главных ипостасей всячески разжигаемого потребительского инстинкта. Стремление к наслаждению любой ценой возводится современным буржуазным обществом в неписаный принцип поведения и сознания индивида и получает определенное рациональное обоснование. Человек чувствует себя ничтожным придатком молоха, огромной, отчужденной от него государственно-бюрократической машины. Это порождает в массовом масштабе – желание "забыться", избавиться от сознания собственной незначимости. Секс, подобно любому другому товару, играет в этих условиях роль наркотика, сильнодействующего средства отвлечения, переключения потребностей духовного порядка в сферу чистой физиологии, в сферу инстинктов.
Пропаганду свободы сексуального поведения некоторые западные теоретики пытаются объяснить (и оправдать) желанием высвободиться из пут лживой, лицемерной викторианской морали, поскольку та закрепощает человеческие чувства, ущемляет независимость личности. Более того, в бунте обывателя против традиционных норм культуры и морали, сложившихся в пору становления капитализма, они усматривают бунт против буржуазности вообще. Однако современная буржуазия не случайно согласилась идти на поводу этого "бунта" и не только признала последний, но и возглавила его, щедро субсидируя все его новшества.
Истоки того, что сегодня на Западе именуется сексуальной революцией, задолго до ее появления раскрыл В. И. Ленин. "…В эту эпоху, – говорил он в беседе с Кларой Цеткин, – когда рушатся могущественные государства, когда разрываются старые отношения господства, когда начинает гибнуть целый общественный мир, в эту эпоху чувствования отдельного человека быстро видоизменяются. Подхлестывающая жажда разнообразия в наслаждениях легко приобретает безудержную силу. Формы брака и общения полов в буржуазном смысле уже не дают удовлетворения" [Воспоминания о В. И. Ленине. В 5-ти т. М., 1970, т. 5, с. 44.]. Современная "сексуальная революция" отнюдь не связана с потребностью кардинальных общественных изменений и потому никакой реальной угрозы буржуазному господству не песет. Напротив, своей отвлекающей и компенсаторной силой она созвучна важнейшей стратегической цели господствующего класса – любыми средствами удержать массы в подчинении.
Что же происходит со способностью любить в этих условиях? Авторы многочисленных исследований и книг, посвященных проблематике "сексуальной революции", фиксируют довольно прискорбный итог. Снятие запретов, вторжение рекламы в интимные отношения и брачную жизнь повлекло за собой утрату остроты переживания. То, что общедоступно, перестало быть "тайной", не может стать предметом страсти.