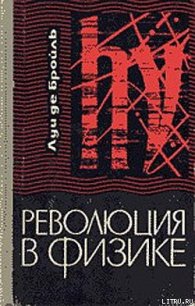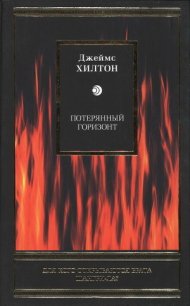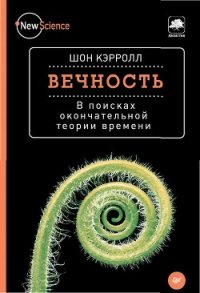Шаги за горизонт - Гейзенберг Вернер Карл (бесплатные книги онлайн без регистрации .txt) 📗
Бросая ретроспективный взгляд на историю, мы видим, что наша свобода в выборе проблем, похоже, очень невелика. Мы привязаны к движению нашей истории, наша жизнь есть частица этого движения, а наша свобода выбора ограничена, по-видимому, волей решать, хотим мы или не хотим участвовать в развитии, которое совершается в нашей современности независимо от того, вносим ли мы в него какой-то свой вклад или нет. Наше личное действие без благоприятствующего ему исторического развития оказалось бы, скорее всего, бесплодным. Если бы Эйнштейн жил в XII веке, у него было бы очень мало шансов стать хорошим ученым. И даже в такой плодотворный период, как наш, ученый не так уж свободен в выборе своей проблематики. Наоборот, можно сказать, что проблемы нам заданы, что нам не приходится их изобретать. Это относится к искусству, наверное, не меньше, чем к науке. Когда в XV веке голландские художники открыли для себя возможность изображать людей как активных членов своего общества, многие одаренные люди увлеклись такой возможностью и соревновались между собою в решении этой продиктованной общими условиями человеческой жизни проблемы. В XVIII веке Гайдн попытался выразить в своих струнных квартетах настроения, давшие о себе знать в современной ему литературе, в книгах Руссо, в «Вертере» Гёте; и после этого в Вене сошлись музыканты более молодого поколения — Моцарт, Бетховен, Шуберт, — соперничавшие между собою в разрешении той же проблемы. В наше столетие развитие физики навело Нильса Бора на мысль, что эксперименты Резерфорда с альфа-лучами, теория излучения Макса Планка и факты, установленные химией, можно обобщить в единой теории; в последующие годы многие молодые физики съехались в Копенгагене, чтобы сотрудничать в разрешении этой поставленной перед ними проблемы. Не приходится сомневаться, что в деле выбора проблемы традиция, ход исторического развития играют существенную роль.
Временами это обстоятельство может проявляться и в негативном смысле. Может случиться, что традиционные темы окажутся исчерпанными и одаренные люди повернутся спиной к области, в которой они уже не видят более цели для своей деятельности. После Фомы Аквинского философам надоели теологические и философские проблемы схоластики, и они обратились к гуманизму. В наше время, похоже, исчерпаны традиционные темы искусства. Одна из известнейших регулярных выставок модернистского искусства в Германии, «Документа» в Касселе, в последний раз стала центром скорее политической пропаганды, чем искусства, а на фасаде здания выставки молодые художники вывесили огромный плакат с надписью: «Искусство излишне». Аналогичным образом мы не можем исключить той возможности, что когда-то темы науки и техники истощатся, молодому поколению надоест наша рационалистическая и прагматическая установка, и оно обратит свой интерес к совершенно иной деятельности. Впрочем, сейчас в чистой и прикладной науке имеется пока еще много проблем, искусственно выдумывать которые не приходится, и учителя передоверят их своим ученикам.
В данной связи важно подчеркнуть совершенно исключительную роль личных взаимоотношений в процессе развития науки и искусства. Это не обязательно отношения между учителем и учеником, речь может идти просто о личной дружбе или взаимном уважении между людьми, работающими ради одной и той же цели. В этом, по-видимому, и состоит наиболее действенное орудие традиции. Из многочисленных примеров, на которых можно показать такое действие традиции, я приведу лишь несколько, из которых видно, как личные отношения отражались на истории физики первой половины нашего века. Эйнштейн был хорошим знакомым Планка, он переписывался с Зоммерфельдом по вопросам теории относительности и квантовой теории, он был связан тесной дружбой с Максом Борном, хотя так и не смог сойтись с ним в статистической интерпретации квантовой теории, он обсуждал с Нильсом Бором и философские выводы из принципа неопределенности. Научный анализ крайне трудных проблем, поднятых теорией относительности и квантовой теорией, в значительной мере проводился фактически в личных беседах между активными участниками исследования.
Институт Зоммерфельда в Мюнхене был в начале двадцатых годов центром атомных исследований, в группу Зоммерфельда входили Паули, Вентцель, Лапорте, Ленц и многие другие, причем мы почти ежедневно обсуждали там трудности и парадоксы, возникавшие при интерпретации новейших экспериментов. Когда Зоммерфельд получал письмо от Эйнштейна или Бора, он зачитывал важные части письма на семинаре, и тотчас же начиналась дискуссия вокруг принципиальных проблем. Нильс Бор был тесно связан с лордом Резерфордом, Отто Ганом, Лизой Метнер и считал, что постоянный обмен информацией между экспериментаторами и теоретиками является делом первостепенного значения для успеха физической науки. Огромное влияние, которое в свое время Нильс Бор оказывал на физику, объяснялось прежде всего не его публикациями, а тем, что он постоянно обсуждал со своими коллегами принципиальные проблемы квантовой теории, не имевшие, как он знал, легких решений. Когда Шрёдингер выступил со своей волновой механикой. Бор сразу понял, что это важный новый аспект квантовой теории, но что простой заменой электронных орбит в атоме трехмерными материальными волнами реальных трудностей не разрешить. И снова он счел личную дискуссию с автором теории единственной возможностью проанализировать проблему. Шрёдингер был приглашен в Копенгаген, и за две недели крайне интенсивных обсуждений был проторен путь к следующему шагу в интерпретации квантовой теории — к понятию дополнительности и к соотношениям неопределенностей. Нет надобности распространяться об этом. Совершенно ясно, что личные связи играют решающую роль в прогрессе науки и при выборе проблем для исследования.
Естественно, при выборе проблем учеными руководят и другие мотивы, тоже сыгравшие важную роль в истории науки. Известнейший из этих мотивов — практическая приложимость науки. Уже в древности интерес к астрономии и математике подогревался тем, что познания в этих областях оказались полезными для мореплавания и землемерия. Мореплавание играло очень важную роль в XV веке, когда первооткрыватели оставили пределы Европы и Средиземноморья и отправились на запад. Явно не простая случайность, что Коперник сделал свои открытия вскоре после начала этой эпохи. Защищая идеи Коперника, Галилей использовал новоизобретенный инструмент, подзорную трубу, и показал тем самым, что прикладная техника может послужить на пользу науке, а наука в свою очередь оказывается полезной тем, что ведет к изобретению новых практических орудий. Галилей и его последователи проявляли острый интерес к практической стороне науки. Они разрабатывали механические приспособления, как, например, механические часы; они изобретали оптические инструменты; Ньютон сконструировал мост, пересекающий в Кембридже реку Кем, и так далее. В науке сложилась определяющая работу вот уже многих поколений традиция, требующая, чтобы научные достижения использовались в практических целях и чтобы это практическое применение служило критерием значимости получаемых результатов и оправданием усилий ученых. Атомные физики первой половины нашего столетия просто следовали этой старой традиции науки, когда искали пути практического применения атомной физики. Их, естественно, крайне огорчило, что первое ее практическое применение оказалось военным. Однако то обстоятельство, что мы теперь получили возможность в больших количествах превращать одни химические элементы в другие, по праву было воспринято как подлинный триумф пашей науки.
Эту заинтересованность в практическом применении науки часто ложно истолковывают как тривиальное желание ученого нажить достаток, заработать деньги. Бывает, разумеется, что этот тривиальный мотив играет какую-то роль, причем, естественно, дело всегда зависит от личных качеств ученого. Но не следует преувеличивать значение этого мотива. Существует другой, гораздо более сильный мотив, когда подлинного ученого практическая приложимость его находок увлекает возможностью видеть, что твоя идея «работает», возможностью убедиться, что природа понята тобою правильно. Вспоминаю об одном послевоенном разговоре с Энрико Ферми, незадолго до предстоявшего испытания первой водородной бомбы в Тихом океане. При обсуждении этого плана я дал понять, что перед лицом вероятных биологических и политических последствий от подобного испытания надлежит воздержаться. Ферми возразил: «Но ведь это такой красивый эксперимент». Вот, пожалуй, сильнейший мотив, стоящий за практическим приложением науки: ученому требуется подтверждение от беспристрастного судьи — самой природы, — что он верно понял ее структуру. И ему хотелось бы видеть плоды своих усилий в действии.