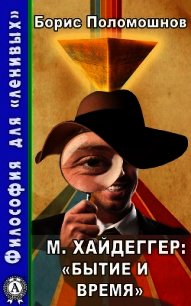Бытие и время - Хайдеггер Мартин (читать книгу онлайн бесплатно без TXT) 📗
На основе этой экзистенциально первичной способности слышать возможно нечто подобное прислушиванию, которое феноменально еще исходнее чем то, что в психологии «ближайшим образом» определяется как слышание, ощущение тонов и восприятие звуков. И прислушивание также имеет бытийный род понимающего слышания. «Ближайшим образом» мы вовсе никогда не слышим шумы и звуковые комплексы, но скрипящую телегу, мотоцикл. Слышат колонну на марше, северный ветер, стук дятла, потрескивание огня. Требуется уже очень искусственная и сложная установка, чтобы «слышать» «чистый шум». Что мы однако ближайшим образом слышим мотоциклы и машины, есть феноменальное свидетельство тому, что присутствие как бытие-в-мире всегда уже держится при внутримирно подручном, а вовсе не сначала при «ощущениях», чья мешанина должна сперва якобы оформиться, чтобы послужить трамплином, от которого отскочит субъект, чтобы в итоге добраться до «мира». Присутствие как сущностно понимающее бывает прежде всего при понятом.
При специальном слушании речи другого мы тоже сначала понимаем сказанное, точнее, заранее уже бываем вместе с другими при сущем, о котором речь. Фонетически произносимое, мы, наоборот, ближайшим образом не слышим. Даже там, где говорение неотчетливо или даже язык чужой, мы слышим сначала непонятные слова, а не разнообразие акустических данных.
При «естественном» слышании того, о-чем речь, мы можем, конечно, вслушиваться вместе с тем в способ произнесения, «дикцию», но это тоже только в предшествующем понимании также и говоримого; ибо лишь таким образом существует возможность оценить конкретное как произнесенности в его соразмерении с тематическим о-чем речи. Равно и реплика как ответ следует обычно прямо из понимания о-чем речи, уже «разделенного» в событии.
Только где дана экзистенциальная возможность речи и слышания, кто-то может прислушиваться. Кто «не умеет слушать» и «до него надо достучаться», тот возможно очень прекрасно и именно поэтому умеет прислушиваться. Простое развешивание ушей есть привация слышащего понимания. Речь и слышание основаны в понимании. Последнее не возникает ни от многоречивости, ни от деловитого подставления ушей. Только кто уже понимает, умеет вслушаться.
Тот же самый экзистенциальный фундамент имеет другая сущностная возможность речи, молчание. Кто в друг-с-другом-говорении умолкает, способен собственнее «дать понять», т.е. сформировать понятность, чем тот, у кого речам нет конца. Многоговорение о чем-либо ни в малейшей мере не гарантирует, что понятность будет этим раздвинута вширь. Как раз наоборот: пространное обговаривание затемняет и погружает понятое в кажущуюся ясность, т.е. в непонятность тривиальности. Молчать опять же не значит быть немым. Немой наоборот имеет тенденцию к «говорению». Немой не только не доказал, что умеет молчать, он лишен даже всякой возможности доказать такое. И подобно немому тот, кто от природы привык мало говорить, не показывает, что он молчит и умеет молчать. Кто никогда ничего не говорит, не способен в данный момент и молчать. Только в настоящей речи возможно собственное молчание. Чтобы суметь молчать, присутствие должно иметь что сказать, т.е. располагать собственной и богатой разомкнутостью самого себя. Тогда умолчание делает очевидными и подсекает «толки». Умолчание как модус говорения артикулирует понятность присутствия так исходно, что из него вырастает настоящее умение слышать и прозрачное бытие-с-другими.
Поскольку для бытия вот, т.е. расположения и понимания, конститутивна речь, а присутствие значит: бытие-в-мире, присутствие как речь бытия-в себя уже высказало. У присутствия есть язык. Случайность ли, что греки, повседневное экзистирование которых вкладывало себя преимущественно в говорение-друг-с-другом и которые одновременно «имели глаза» чтобы видеть, в дофилософском равно как в философском толковании присутствия определяли существо человека как Сфо^ ????? ^xov». Позднейшее толкование этой дефиниции человека в смысле animal rationale, «разумное живое существо», правда не «ложно», но оно скрывает феноменальную почву, из которой извлечена эта дефиниция присутствия. Человек кажет себя как сущее, которое говорит. Это значит не что ему присуща возможность голосового озвучания, но что это сущее существует способом раскрытия мира и самого присутствия. Греки не имеют слова для языка, они понимали этот феномен «ближайшим образом» как речь. Поскольку однако для философского осмысления ????? входил в рассмотрение преимущественно как высказывание, разработка основоструктур форм и составных частей речи проводилась по путеводной нити этого логоса. Грамматика искала свой фундамент в «логике» этого логоса. Последняя однако основывается в онтологии наличного. Перешедший в последующее языковедение и в принципе сегодня еще законодательный основосостав «семантических категорий» ориентируется на речь как высказывание. Если наоборот взять этот феномен в принципиальной исходности и широте экзистенциала, то представляется необходимость перенесения науки о языке на онтологически более исходные основания. Задача освобождения грамматики от логики предварительно требует позитивного понимания априорной основоструктуры речи вообще как экзистенциала и не может быть выполнена путем привнесений через усовершенствования и дополнения к традиционному. Во внимании к этому надлежит спросить об основоформах возможного значениесоразмерного членения понимаемого вообще, не только внутримирного сущего, познанного в теоретическом рассмотрении и выраженного в пропозициях. Учение о значении не сложится само собой через всеохватывающее сравнение по возможности многих и отдаленных языков. Столь же недостаточно и заимствование скажем философского горизонта, внутри какого В. Ф. Гумбольдт сделал язык проблемой. Учение о значении коренится в онтологии присутствия. Его расцвет и гибель зависят от судьбы последней.
В конце концов философское исследование должно однажды решиться спросить, какой способ бытия вообще присущ языку. Есть ли он внутримирно подручное средство или имеет бытийный образ присутствия либо ни то ни другое? Какого рода бытие языка, если он может быть «мертвым»? Что значит онтологически, что язык растет и распадается? У нас есть наука о языке, а бытие сущего, которое она имеет темой, туманно; даже горизонт для исследующего вопроса о нем загорожен. Случайно ли, что значения ближайшим образом и большей частью «мирны», размечены значимостью мира, да даже часто по преимуществу «пространственны», или это «эмпирическое обстоятельство» экзистенциально-онтологически необходимо, и почему? Философскому исследованию придется отказаться от «философии языка», чтобы спрашивать о «самих вещах», и оно должно привести себя в состояние концептуально проясненной проблематики.