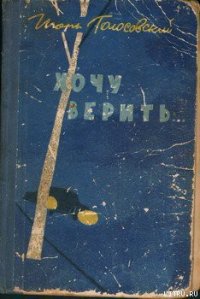- - Лукач Георг (книги онлайн бесплатно серия txt) 📗
Стало быть, непосредственность и опосредствовавние являются не только соподчиненными друг другу, взаимодополняющими способами отношения к предметам действительности, но одновременно они — в соответствии с диалектической сущностью действительности и диалектическим характером наших стремлений размежеваться с нею — являются диалектически релятивированными определениями. Это означает, что всякое опосредствование должно необходимым образом выявить точку зрения, при которой порожденная им предметность принимает форму непосредственности. Именно таков, однако, случай буржуазного мышления в его отношении к — проясненному и просвеченному многими опосредствованиями — общественно-историческому бытию буржуазного общества. Когда оно оказывается неспособным найти дальнейшие опосредствования, понять бытие и возникновение буржуазного общества как продукт того же самого субъекта, который «порождает» постигнутую тотальность познания, его конечной и решающей для познания в целом точкой зрения становится точка зрения непосредственности. Ибо, по словам Гегеля, «опосредствующим должно было бы быть то, в чем обе стороны составляли бы одно, где сознание, следовательно, узнавало бы один момент в другом, свою цель и действование — в судьбе и свою судьбу — в своей цели и своем действовании, свою собственную сущность — в этой необходимости». [112]
Надеюсь, что в ходе предшествующих рассуждений удалось ясно показать, что буржуазному мышлению недостает и должно недоставать именно здесь именно такого опосредствования. В экономическом плане это было продемонстрировано Марксом множество раз; [119] ложные представления об экономическом процессе капитализма, которые имеет буржуазная политэкономия, категорически сведены к недостатку опосредствования, к методологическому игнорированию категорий опосредствования, к непосредственному принятию производных форм предметности, к остановке на ступени — чисто непосредственного — представления. Мы имели возможность во втором разделе самым настоятельным образом указать нате мыслительные следствия, которые проистекают из качественной определенности буржуазного общества и методологических границ буржуазного мышления, и мы выделили те антиномии (субъект-объект, свобода-необходимость, индивидуум-общество, форма-содержание и т. д.), к которым должно было при этом прийти мышление. Теперь дело состоит в том, чтобы увидеть то, что буржуазное мышление, — приходя к данным антиномиям лишь на пути величайшего умственного напряжения, — акцептирует как самоочевидную, попросту подлежащую принятию фактичность бытийную основу, на которой вырастают эти антиномии: оно относится к ним непосредственно. Соответственно, Зиммель заявляет как раз по поводу идеологической структуры осознания овеществления: «И поэтому такие противотечения, поскольку они однажды пробили себе дорогу, могут стремиться также к идеалу абсолютно чистого обособления: когда все предметное содержание жизни становится все более деловым и безличным, тогда вместе с тем не овеществляемый остаток жизни становится еще более личным, становится еще более неоспоримым достоянием Я». [120] Но при этом как раз из того, что нужно было бы вывести и понять благодаря опосредствованию, получается принимаемый и даже прославляемый как ценность принцип объяснения всех феноменов: не проясненная и не проясняемая фактичность наличного и определенного существования буржуазного общества приобретает характер вечного естественного закона или вневременно значимой культурной ценности.
Но ведь это является одновременно ликвидацией истории. «Таким образом, — заявляет Маркс, — до сих пор была история, а теперь ее более нет», [121] И хотя эта антиномия также в более поздние времена принимает все более утонченные формы и даже выступает в виде историзма, исторического релятивизма, это совершенно ничего не меняет в самой фундаментальной проблеме, в ликвидации. Наиболее ярко предстает перед нами эта неисторическая, антиисторическая сущность буржуазного мышления, когда мы рассматриваем как историческую проблему проблему современности. Полная неспособность всех буржуазных мыслителей и историков постичь всемирно-исторические события современности как мировую историю сохранилась в качестве ужасного воспоминания в памяти каждого здравомыслящего человека после мировой войны и мировой революции. И эту совершенную несостоятельность, которая низвела некогда заслуженных историков и проницательных мыслителей на возбуждающий сочувствие и презрение духовный уровень наихудшей провинциальной журналистики, нельзя просто и во всех случаях объяснить внешними причинами (цензура, приспособление к «национальным» классовым интересам и т. д.); напротив, эта несостоятельность имеет свое методологическое основание, которое состоит в том, что контемплятивно-непосредственное поведение создает между субъектом и объектом то самое, описанное Фихте, «темное и пустое» иррациональное промежуточное пространство, чья темнота и пустота, которые наличествуют также при познании прошлого, но скрадываются пространственно-временным и историческо-опосредствующим отдалением, выступают тут в своем неприкрытом виде. Красивая метафора Эрнста Блоха, наверное, может осветить эту методологическую ограниченность более ясно, нежели подробный анализ, для которого, так или иначе, нет никакой возможности. Если природа становится ландшафтом (в противоположность, например, бессознательной жизни-в-природе крестьянина), то художественная непосредственность переживания ландшафта, которое, разумеется, проходит многие опосредствования, дабы достичь этой непосредственности, обзаводится предпосылкой в виде некоей, в данном случае пространственной, дистанции между наблюдателем и ландшафтом. Наблюдатель находится вне ландшафта, иначе природа не может стать для него ландшафтом. И если бы он, не выходя за рамки этой эстетическо-контемплятивной непосредственности, попытался ввести самого себя и непосредственно окружающую его пространственно природу в «природу как ландшафт», то он тотчас бы убедился в том, что ландшафт только на определенной, при разных обстоятельствах различной, дистанции от наблюдателя начинает быть ландшафтом, что он лишь как пространственно обособленный наблюдатель может иметь ландшафтное отношение к природе. Конечно, здесь это должно служить только как методологически проясняющий положение дел пример, ибо ландшафтное отношение находит свое адекватное и не проблематическое выражение в искусстве хотя, тем не менее нельзя забывать, что и в искусстве дает себя знать та же самая неустранимая дистанция между субъектом и предметом, которая встречалась нам повсюду в современной жизни, и что искусство может знаменовать собой лишь образное оформление [Gestaltung], но не реальное разрешение этой проблематики. Однако в истории, поскольку она теснится к современности, — а это неизбежно, поскольку мы, в конечном счете, интересуемся историей затем, чтобы действительно понимать современность, — резко проявляется это, по словам Блоха, «вредное пространство». Ибо оказывается, что обе крайности, на которые поляризуется неспособность буржуазно-контемплятивного поведения к постижению истории, а именно: «великие индивидуумы» как самовластные творцы истории и «естественные законы» исторической среды — обе эти крайности одинаково бессильны перед лицом требующего смыслополагания радикально нового, перед лицом современности, причем все равно, выступают они по раздельности или вместе [122]. Внутренняя завершенность художественного произведения может скрыть разверзающуюся здесь бездну, поскольку его совершенная непосредственность не позволяет возникнуть вопросу о более невозможном для контемплятивной точки зрения опосредствовании. Наличие проблемы истории как практически неотразимой проблемы повелительно требует такого опосредствования. Должна быть предпринята попытка его осуществить. В подобных попытках, однако, обнаруживается то, что формулирует Гегель в связи с вышеприведенным определением опосредствования относительно ступени самосознания: «Поэтому сознание благодаря своему опыту, в котором для него должна бала обнаружиться его истина, стало для себя скорее загадкой: последствия его действий для него не есть сами его действия; то, что с ним случается, не есть для него опыт того, что оно есть в себе; переход не есть просто изменение формы одного и того же содержания и одной и той же сущности, представленных в одном случае как содержание и сущность сознания, в другом — как предмет или созерцаемая сущность самого себя. Абстрактная необходимость является, таким образом, значимой [gilt] для той лишь негативной непостигнутой в понятии мощи всеобщности, о которую разбивается индивидуальность» [123].