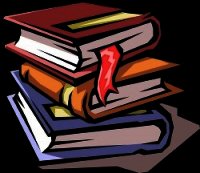Конец стиля (сборник) - Парамонов Борис Михайлович (бесплатные версии книг txt) 📗
Исторические корни американской психологии кающихся слишком известны, и настроение это заслуживает уважения (как его заслуживала и русская интеллигенция в своем моральном экстремизме). Вопрос в другом: в социальной полезности этих возвышенных чувств.
У Марселя Пруста в первом его томе есть рассуждение о милосердии, вызванное рассмотрением некоей аллегорической статуи того же названия. Это изображение женщины, протягивающей вовне извлеченное из собственной груди сердце. Выразительность и эстетическую убедительность, говорит Пруст, эта фигура обретает не в эмоциональной окраске своей — попросту отсутствующей, — а в предельной материальности чисто физического жеста: отдать людям сердце — это не метафора, вызывающая сентиментальные ассоциации, а реальное действие, в последнюю очередь озабоченное своей моральной оценкой.
Менее всего сентиментальны врачи.
Трудно думать, что американские либералы, озабоченные сохранением патерналистских формул вэлфэра, — это в массе своей сентиментальные добряки. Я полагаю, что даже сенатор Крэнстон не такой уж добряк. В конце концов дело здесь не в чьих-то добродетелях или пороках, а в объективном процессе эволюций массового общества. Основа этих процессов — само наличие массового общества, «восстание масс». Этот феномен требует адекватной реакции со стороны людей, претендующих на управление обществом, на формирование политики. И сейчас уже не будет большой смелостью сказать, что политические вожди западного мира не нашли безусловно правильного ответа на этот вызов XX века.
Их ответ был — социализм, мягкие его формы, вэлфэр, патерналистское государство. В сущности эта политика была им навязана — тем же социализмом, но выступившем в жесткой форме советского большевизма. В большевизме, в коммунистическом тоталитаризме звучит, но на полную громкость включенная, та же нота распределения, тот же вэлфэр. Советская жизнь — это housing project, распространенный на всю страну, на всю полноту социального бытия. Один из лучших нынешних русских публицистов Денис Драгунский пишет, что социализм — аръергардная форма рабовладения: но так же, или почти так же, можно назвать и американский вэлфэр, это soft slavery. ГУЛаг — жесткий вариант того же вэлфэра, удивительно напоминающий тот Hospital General, который анализировал Фуко в «Сумасшествии и цивилизации». Политика Запада в XX веке была реактивной, а не активной.
От этой политики можно и удобно отказаться именно сейчас — по крайней мере, по двум причинам. Первая: крах коммунизма в стране его зарождения устраняет внешнюю опасность, понимаемую не в смысле военного противостояния, а как некую провокацию, понуждающую свободные страны Запада, хотя бы и в смягченных формах, воспринимать социалистические программы. Вторая причина: то же явление — крах коммунизма — заставляет в полной мере осознать принципиальную тупиковость социалистического пути и любых его программ. Память о судьбе коммунизма в России, это своего рода memento mori современной цивилизации, следует сделать доминантой либерального мышления на Западе.
С известной долей истины можно сказать, что проблема бедности на Западе является проблемой лингвистической, проблемой навязываемой «низшим классам» самооценки. Это вопрос самосознания и самовыражения. Есть корысть бедняков, о которой писал еще Оскар Уайльд («Душа человека при социализме»), и есть гордость бедняков — но не морально-обязывающая, а идеологически-вызывающая. У польского писателя Славомира Мрожека есть рассказ «Пер Гюнт», герой которого — «никто, ставшее всем» социализма. Он нужен новому обществу именно в этом Качестве: как противовес устоявшемуся миру традиционных ценностей. Его выпускают на трибуны для того, чтобы он произносил только два слова: «Мы, бедняки…». Он запущен на орбиту: забыл дом, семью, всю прошлую жизнь — а в новой научился только читать железнодорожное расписание, чтоб не запутаться в поездах, доставляющих его на место очередного митинга. Но однажды его разоблачают — на конференции астрономов, наблюдающих неизменные законы горнего, а не возмущения дольнего мира. Скиталец Пер Гюнт возвращается домой — но на пороге дома останавливает бросившуюся к нему Сольвейг отстраняющим жестом руки и словами: «Мы, бедняки…».
И все же: что такое на Западе бедность, городские гетто (inner cities), расовая сегрегация? Это феномены того же массового общества, следы массовых процессов. Понятно, что и ответ на эти бедствия искался на тех же путях — количественного анализа, генерализирующих программ. Это было поистине «неисторично». Глобальные установки вообще не срабатывают в истории. История в этом смысле «не политична». Она требует своего рода интимности в подходе к ней, — ибо в конечном итоге в ней дело идет не о массах, а о личностях, о личности. Апеллировать в истории всего разумней — и действенней — не к классовому самосознанию, не к национальной идентичности, а к приватному интересу. Поразительно, как Запад сплошь и рядом забывает этот главный урок собственной истории, американское золотое правило: Don’t generalize!
История — это процесс превращения икры в рыбу. Рыбы тоже существуют крупными массами, но все же каждая из них способна к самопрокормлению. Вэлфэр подбрасывает им наживку — на крючке. А здоровым рыбным столом украшают свое меню либеральные защитники социальных программ.
Другими словами, протекционистская политика стала способом существования не столько обездоленных масс, сколько методом социального выживания паразитического слоя политиков, фиксирующих эту обездоленность как повод для политики. Аналог здесь — каста жрецов в трактовке Ницше: социальный слой, существовавший на эксплуатации чувств греховности и моральной беспомощности масс, ими же, жрецами, и навязанных.
Конец истории, если сохранить этот термин и эту надежду, будет означать конец политики как искусства управлять массами. Гарантированное от (социальной) политики существование — вот формула подлинного конца истории.
Ведь именно сегодняшняя, постиндустриальная цивилизация дает возможность реального осуществления этой программы. «Малые технологии», компьютер в загородном доме — слагаемые новой картины мира, нового образа труда. Возможна новейшая буколика: так сказать, не Нью-Йорк, а Лонг Айленд, освобожденный даже от необходимости «коммьютинга».
Не город, а пригород, «за-город» Марины Цветаевой, не гетто мегаполисов, а «гетто избранничеств» — сугубо индивидуальная жизнь, приближающаяся к своему идеалу и логическому пределу: жизнь поэта, артиста, то есть экстремально индивидуализированной личности. Отъединение, смягченное всеми современными средствами электронной коммуникации.
Перспективнейший поворот культурной истории человечества связан именно с этой возможностью достижения каждым мирным обывателем формального статуса гордого, не от мира сего артиста. Когда-то в Германии Рихард Вагнер, а в России Вячеслав Иванов и Александр Блок мечтали о «человеке-артисте» как венце культурной истории, но видели такового в образе нового Орфея-мифотворца, выражающего стихийный голос масс; сама культура понималась как «стихия». Установка — на артиста — была правильной, нужно только увидеть в нем образ приватного человека, а не водителя масс.
Я бы сказал и большее: современная историко-культурная ситуация дает возможность синтеза экзистенциальных позиций художника, христианина и буржуа.
Каков общий знаменатель этих столь, казалось бы, несходных положений? Одиночество. Здесь, конечно, можно вспомнить знаменитого героя рассуждений Макса Вебера о протестантской этике и духе капитализма. Буржуа-пуританин — одинокий человек par excellence: его оставил Бог. Человек оказывается способным к самостоятельному действию, когда он теряет видимый смысл бытия, утрачивает веру в осмысленность предопределения, гарантированную неким строгим, но справедливым Отцом. А осмысленное предопределение и есть История. Личность формируется утратой исторического горизонта. Человеку предстоит создать свой собственный смысл, свою систему ценностей. Работа эта идет, по словам Ницше, бесшумно: это не гибель Помпеи, но именно «вокруг творцов новых ценностей вращается мир».