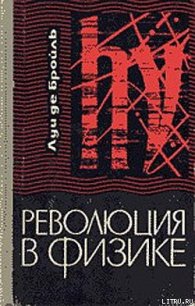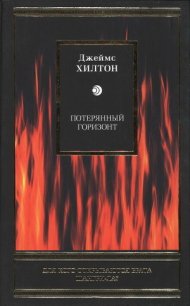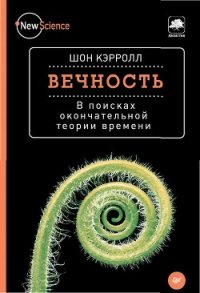Шаги за горизонт - Гейзенберг Вернер Карл (бесплатные книги онлайн без регистрации .txt) 📗
Когда Эйнштейн в 1916 году расширил теорию относительности и перешел к так называемой общей теории относительности, геометрия тоже подверглась пересмотру; обнаружилось, что геометрия зависит от гравитационного поля, от поля сил тяжести, а это значит, что геометрические отношения реального мира поддаются правильному описанию только с помощью неевклидовой геометрии типа римановой, иными словами, с помощью геометрии, полностью лишенной наглядности.
Философы горячо оспаривали и этот вывод; мюнхенский философ Г. Динглер подчеркивал, например, что уже сама практика конструирования экспериментальной аппаратуры обеспечивает справедливость евклидовой геометрии [81]. Динглер рассуждал так: если механик стремится получить абсолютно плоские поверхности, он может действовать следующим образом: сделать сначала три приблизительно плоские поверхности более или менее равной величины; затем прикладывать их попарно друг к другу во всевозможных положениях. Степень соприкосновения этих поверхностей можно считать мерой их ровности. Механик будет стремиться к тому, чтобы соприкосновение каждой пары имело место во всех точках одновременно. Если этого удается достичь, можно математически доказать, что на плоскостях будет выполняться евклидова геометрия. Таким образом, наши собственные практические действия обеспечивают истинность евклидовой геометрии и ложность всякой другой. С точки зрения общей теории относительности на это можно, разумеется, возразить, что приведенный довод доказывает справедливость евклидовой геометрии лишь в малых масштабах, а именно в масштабах нашего экспериментального инструментария. Евклидова геометрия в самом деле выполняется тут с такой высокой точностью, что вышеописанный процесс изготовления плоских поверхностей всегда осуществим. Имеющиеся и здесь крайне малые отклонения от евклидовой геометрии останутся незаметными, поскольку материал, из которого сделаны поверхности, не обладает абсолютной твердостью и допускает небольшие деформации, а кроме того, и потому, что понятие «соприкосновение» нельзя вполне точно определить. Для поверхностей же космического размера описанный процесс неосуществим. Впрочем, эта проблема не относится к области экспериментальной физики.
Справедливость евклидовой геометрии в малых масштабах и в общей теории относительности служит достаточным основанием для установления связи понятий классической физики с символами искусственного математического языка. Собираясь говорить о своих опытах, физик не испытывает ни малейшего затруднения; ведь опыты эти проходят всегда в малых масштабах пространства и времени, даже если он наблюдает очень далекие звезды или предельно быстро движущиеся частицы. Стало быть, и здесь язык физика-экспериментатора в конечном счете согласован с искусственным языком математики. На основе теории относительности сформировался в итоге язык, позволяющий говорить и о пространственно-временных отношениях в целом; тем самым упомянутые вначале трудности, вообще говоря, могут считаться преодоленными.
Гораздо более серьезные языковые трудности возникли, однако, в атомной физике. При описании процессов, протекающих в области мельчайших размеров, при описании взаимосвязей, проанализированных и математически выраженных квантовой теорией, обыденный язык и язык классической физики столь явно обнаружили свою непригодность, что даже физики эйнштейновского ранга до конца жизни не в состоянии были примириться с новой ситуацией.
Положим, мы наблюдаем электроны в камере Вильсона; мы видим их след в виде полосы конденсированного пара, похожей на полосу, по которой мы распознаем самолет, летящий высоко в небе; на этом основании мы уверенно говорим об электронах как о быстро летящих электрически заряженных частицах. Но в других экспериментах те же самые образования проявляются как волны, способные вызвать явления дифракции и интерференции; они, следовательно, не могут быть только частицами ничтожной протяженности, одновременно они должны быть и процессами, распространяющимися в более обширном пространстве. Как можем мы охарактеризовать подобные образования, если всякое сравнение с образами нашего чувственно воспринимаемого мира оказывается неприменимым или в лучшем случае может выступать лишь в качестве намека и остается жестко связанным с экспериментами определенного типа? Здесь опять-таки невозможно входить в содержание квантовой теории и выяснять суть описываемых ею явлений, но, как и раньше, допустимо, пожалуй, задаваться вопросом о языке, на котором фактически говорят об атомах и элементарных частицах.
После открытия, сделанного Планком в 1900 году, история становления квантовой теории напоминает историю становления теории относительности, с той разницей, что первая заняла гораздо больше времени. Важнейшие экспериментальные данные в исследованиях атомных спектров и в химии были получены уже на рубеже столетий и накапливались в течение первых двух десятилетий XX века. Затем, в 20-е годы, на основе этого богатейшего материала была разработана математическая формулировка квантовой и волновой механики и в результате было достигнуто наконец полное понимание квантовомеханических явлений. За 30 лет, прошедших с тех пор, в среде физиков выработался язык, на котором они говорят об атомарных явлениях. На этот раз, однако, он не согласуется с искусственным языком математики. Вместо этого сложился особый прием: для описания мельчайших частей материи используются попеременно различные, противоречащие друг другу наглядные образы. В зависимости от характера конкретного эксперимента определяется, целесообразно ли в данном случае говорить о волне или о частице, о траекториях электрона или о стационарных состояниях. При этом, однако, мы всегда ясно сознаем, что подобные образы — лишь неточные аналогии, что мы имеем дело всего лишь с условными событиями и пытаемся с их помощью приблизиться к реальному событию.
Если же требуется точная формулировка, чаще всего приходится ограничиваться искусственным языком математики.
Такой способ формирования языка связан прежде всего с основополагающим парадоксом квантовой теории. Всякий эксперимент независимо от того, относится ли он к явлениям повседневной жизни или атомной физики, необходимо описывать в понятиях классической физики. Понятия классической физики образуют тот изначальный язык, на котором мы планируем опыты и фиксируем их результаты. Мы не в состоянии заменить его другим. Тем не менее законы природы ограничивают применимость этих понятий так называемыми соотношениями неопределенностей. Например, мы не можем точно знать положение элементарной частицы и одновременно с той же степенью точности — ее скорость. Чем точнее измеряем мы это положение, тем менее точно наше знание о скорости, и наоборот. Произведение обеих неточностей равно постоянной Планка, деленной на массу соответствующей частицы. Н. Бор говорил о дополнительности понятий места и скорости и указывал, как правило, на то, что в атомной физике мы вынуждены пользоваться разными способами описания, исключающими, но также и дополняющими друг друга, адекватное же описание процесса достигается в конечном счете только игрой различных образов. Ситуация дополнительности привела к тому, что физик, говоря о событии в мире атомов, нередко довольствуется неточным метафорическим языком и, подобно поэту, стремится с помощью образов и сравнений подтолкнуть ум слушателя в желательном направлении, а не заставить его с помощью однозначной формулировки точно следовать определенному направлению мысли. Речь становится однозначной, только если мы пользуемся искусственным языком математики, корректность которого подтверждается опытом и не вызывает сомнений.
Вообще говоря, нет принципиальных оснований отрицать возможность полного согласования разговорного слова с искусственным языком математики, и можно задаться вопросом, почему в квантовой механике этого не произошло, тогда как в теории относительности разговорный язык вполне естественно слился с математическим. Подлинная причина столь различного хода событий кроется, пожалуй, в том примечательном обстоятельстве, что в языке, соответствующем математическому формализму квантовой теории, уже нельзя было бы опираться на классическую аристотелевскую логику; ее пришлось бы заменить другого рода логикой. К счастью, математики давно уже поняли возможность существования таких неаристотелевских логик, исследовали их и выяснили принципиальные проблемы, связанные с их использованием. Тем не менее неаристотелевская логика столь еще непривычна для человеческого мышления, что физики вряд ли оказались бы в состоянии воспользоваться ею. Вот почему язык физиков в действительности развивался по-другому. И все же поучительно познакомиться с логикой языка, соответствующего математической схеме квантовой теории.