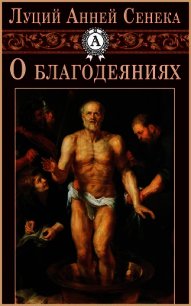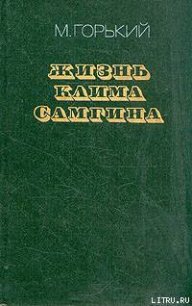Нравственные письма к Луцилию - Сенека Луций Анней (электронную книгу бесплатно без регистрации TXT) 📗
(5) Нужно возвести вокруг несокрушимую стену философии, которую фортуна, сколько бы ни била осадными орудиями, не возьмет никогда. В недосягаемом месте та душа, что покинула все внешнее и отстаивает свою свободу в собственной крепости: никакое копье до нее не долетит. У фортуны руки не так длинны, как мы думаем: ей не схватить никого, кроме тех, кто льнет к ней. (6) Так будем держаться от нее как можно дальше — это удастся сделать, только познав и себя, и природу. Пусть каждый знает, куда он идет и откуда взялся, что для него хорошо, что плохо, чего он ищет и чего избегает, что есть разум, отличающий то, к чему должно стремиться, от того, чего следует бежать, укрощающий безумие желаний и смиряющий жестокость страхов. (7) Некоторые думают, что они подавили все это и без философии. Но когда живших безопасно испытает какое-нибудь бедствие, тогда и будет вырвано у них позднее признанье. Громкие слова уйдут из головы, когда пытатель потребует протянуть руку, когда смерть придвинется ближе. Тогда можно сказать: Легко тебе было издалека бросать вызов бедам! Вот боль, которую ты объявлял терпимой! Вот смерть, против которой ты произносил мужественные речи! Свистят бичи, блещет клинок.
(8) А сделает его твердым неустанное размышление, если только ты будешь упражнять не язык, но душу и готовить себя к смерти, — а сил и мужества противостоять ей не даст тебе тот, кто словесными ухищрениями попытается убедить тебя, будто смерть не есть зло. Право, Луцилий, лучший из людей, приятно посмеяться над этими греческими глупостями, которые я, к моему собственному удивленью, еще не выбросил из головы.
(9) Наш Зенон прибегает к такому умозаключению: «Зло не может быть славным, смерть бывает славной, значит, смерть не есть зло». — Ты своего добился — избавил меня от страха! После таких слов я не поколеблюсь склонить голову под меч. Но не угодно ли тебе говорить серьезнее и не смешить идущего на смерть? Не легко сказать, кто глупее — тот ли, кто верит, будто такой уловкой погасил страх смерти, или тот, кто пытается ее распутать, словно это не чистое празднословие. (10) Ведь сам Зенон предложил противоположную уловку, основанную на том, что смерть мы причисляем к вещам безразличным (греки их называют ййьасвоэа). «Безразличное, — говорит он, — не бывает славным, смерть бывает славной, значит, смерть не безразлична». Видишь, к чему украдкой ведет эта уловка. Не смерть бывает славной, а мужественная смерть. Когда ты говоришь: «безразличное не бывает славным», я соглашусь с тобой в том смысле, что славным бывает только связанное с безразличным. Я утверждаю, что безразличное (то есть ни хорошее, ни плохое) — это и недуг, и боль, и бедность, и ссылка, и смерть. (11) Само по себе все это славным не бывает, но и без этого нет ничего славного: хвалят не бедность, а того, кого она не покорила, не согнула, хвалят не ссылку, а того, кто, отправляясь в ссылку, не горевал[3], хвалят не боль, а того, кого боль ни к чему не принудила; никто не хвалит смерть — хвалят того, у кого смерть отняла душу, так и не взволновав ее. (12) Все это само по себе не может быть ни честным, ни славным; но к чему приблизилась и прикоснулась добродетель, то она делает и честным, и славным. Эти вещи стоят как бы посредине, и все дело в том, что приложит к ним руку — злонравие или добродетель. Смерть, у Катона славная, у Брута[4] становится жалкой и постыдной. Ведь это тот Брут, который перед смертью искал отсрочек, вышел, чтобы облегчить живот, а когда его позвали и велели склонить голову под меч, сказал: «Сделаю это, клянусь жизнью!» — Какое безумие — бежать, когда отступать уже некуда! «Сделаю это, клянусь жизнью!» Чуть было не прибавил: «жизнью хотя бы и под Антонием». Право, он заслужил, чтобы его предали жизни!
(13) Но, как я сказал вначале, ты видишь, что сама смерть — не добро и не зло: Катону она послужила к чести, Бруту — к позору. Любая вещь, пусть в ней нет ничего прекрасного, становится прекрасной вкупе с добродетелью. Мы говорим: спальня светлая; но она же ночью становится темной; день наполняет ее светом, ночь его отнимает. (14) Так и всему, что мы называем «безразличным» и «стоящим посредине»: богатствам, могуществу, красоте, почестям, царской власти, и наоборот — смерти, ссылке, нездоровью, страданиям, и всему, чего мы больше или меньше боимся, дает имя добра или зла злонравие либо добродетель. Кусок железа сам по себе не горяч и не холоден, но в кузнечной печи он раскаляется, в воде остывает. Смерть становится честной благодаря тому, что честно само по себе: добродетели и душе, презирающей все внешнее.
(15) Но и то, Луцилий, что мы называем «средним», не одинаково: ведь смерть не так безразлична, как то, четное или нечетное число волос растет на голове. Смерть — не зло, но имеет обличье зла. Есть в нас любовь к себе, и врожденная воля к самосохранению, и неприятие уничтоженья; потому и кажется, что смерть лишает нас многих благ и уводит от всего, к чему мы привыкли. И вот чем еще отпугивает нас смерть: здешнее нам известно, а каково то, к чему все перейдут, мы не знаем и страшимся неведомого. И страх перед мраком, в который, как люди верят, погрузит нас смерть, естествен. (16) Так что даже если смерть и принадлежит к вещам безразличным, пренебречь ею не так легко: нужно закалять дух долгими упражнениями, чтобы вынести ее вид и приход. Презирать смерть больше должно, чем принято: слишком много насчет нее суеверий, слишком много даровитых людей состязалось, как бы пуще ее обесславить; изобразили и преисподнюю темницу, и край, угнетаемый вечным мраком, и огромного
А если ты даже и убедишься, что все это сказка и усопших ничего не ждет из того, что внушало им ужас, — подкрадывается новая боязнь: ведь одинаково страшно и быть в преисподней, и не быть нигде. (17) Так разве мужественно пойти на смерть наперекор всему, что внушено нам давним убеждением, не есть один из самых славных и великих подвигов человеческого духа? Ему никогда бы не подняться к добродетели, если бы он считал смерть злом; он поднимется, если сочтет ее безразличной. Природа не допускает, чтобы кто-нибудь отважно шел на то, что считает злом; всякий будет медлить и мешкать, а сделанное поневоле, с желаньем увильнуть не бывает славным. Добродетель ничего не делает по необходимости. (18) И еще одно: не бывает честным то, что делается не от всей души, чему она хоть отчасти противится. А где идут на плохое, либо из боязни худшего, либо в надежде на хорошее, ради которого стоит однажды терпеливо проглотить плохое, там сужденья человека раздваиваются: одно велит выполнить задуманное, другое тянет назад, прочь от подозрительного и опасного дела. Так и разрывается человек в разные стороны. Но слава при этом погибает. Добродетель выполняет все, что решила, без разлада в душе и не боится того, что делает.
(19) Но ты не будешь шествовать смелее, если считаешь беды злом. Эту мысль нужно вытравить из сердца, не то останется замедляющее натиск подозренье, и ты натолкнешься на то, на что нужно бы напасть с ходу.
Наши хотят представить уловку Зенона истинной, а вторую, ей противоположную, обманчивой и лживой. Я не проверяю их ни законами диалектики, ни хитросплетеньями дряхлых ухищрений, но считаю, что неприемлем весь этот род вопросов, когда спрошенный полагает, что его запутали, и, вынужденный соглашаться, отвечает одно, а думает другое. Во имя истины нужно действовать проще, против страха — мужественней.
(20) Я предпочел бы все, что они накрутили, распутать и разъяснить, чтобы не навязывать сужденье, а убеждать. Войско, построенное для боя, идущее на смерть за жен и детей, — как его ободрить? Вот тебе Фабии[7], род, взявший в свои руки войну всего государства. Вот тебе лаконяне, засевшие в самой теснине Фермопил: они не надеются ни победить, ни вернуться, это место и будет им могилой. (21) Как ободрить их, чтобы они телами загородили дорогу лавине, обрушившейся на весь народ, и ушли из жизни, но не со своего места? Неужто сказать им: «Зло не может быть славным; смерть бывает славной, значит, смерть не есть зло»? Вот убедительная речь! Кто после нее поколеблется броситься на вражеские клинки и умереть стоя? А Леонид — как храбро обратился он к воинам! «Давайте-ка завтракать, соратники: ведь ужинать мы будем в преисподней!» — вот что он сказал. И ни у кого кусок не выпал из рук, не завяз в зубах, не застрял в горле; все обещали быть и за завтраком, и за ужином. (22) А тот римский вождь8, который, посылая солдат пробиться сквозь огромное вражеское войско и захватить некое место, сказал им: «Дойти туда, соратники, необходимо, а вернуться оттуда необходимости нет». Видишь, как проста и повелительна добродетель! Кого из смертных, запутав, вы сделаете храбрее, кому поднимете дух? Нет, вы его сломите, ибо меньше всего можно умалять его и насильно занимать хитроумными мелочами тогда, когда готовится нечто великое. (23) Нужно избавить от страха смерти не триста[9], а всех смертных. Как ты им докажешь, что она не зло? Как победишь предрассудки, если люди впитали их во младенчестве и питали на всем своем веку? Где ты найдешь помощь? Что ты ска жешь человеческой слабости? Что ты скажешь, дабы воспламенить людей и бросить в гущу опасностей? Какой речью разрушишь этот единодушный страх, какими силами ума искоренишь упорствующее против тебя убеждение рода человеческого? Будешь нанизывать лукавые слова, сплетать каверзные вопросы? Больших чудовищ бьют большими снарядами. (24) В ту свирепую африканскую змею[10], что была для римских легионов страшней самой войны, напрасно метили из луков и пращей; и пикой[11] нельзя было ее ранить, потому что огромное тело, твердое в меру своей величины, отбрасывало и железо, и все, что метала человеческая рука; только огромными камнями сломали ей хребет. А сражаясь со смертью, ты посылаешь такие малые стрелы? Хочешь встретить льва шилом? То, что ты говоришь, остро. Но нет ничего острее ости на колосе. Есть вещи, которые как раз тонкость и делает бесполезными и никчемными. Будь здоров.