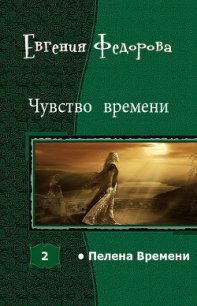Психологическая топология пути - Мамардашвили Мераб Константинович (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
Значит, сначала я сказал, что есть какие-то особые образования, которые и материальны, и духовны. Они духовны в том смысле, что, снимая опосредующий акт заключения, сами себя показывают. Самим же телом показывают. Скажем, Пруст, описывая пение и игру Бермы, говорит об интонации Бермы, что она – прозрачная для души [230], имея в виду, что за представшим нам телесным обликом нет еще чего-то. Он сам есть это «что-то». И значит, эти существа, которые одновременно и материальны, и духовны (это же не просто психологические фикции нашего психологического воображения), которые компенсируют нашу неспособность одновременно быть в разных точках или во многих точках, они, оказывается, еще дают нам и другое время. Или другое пространство. Они дают нам компрессию времени. То время, которое мы должны были бы пройти за десятилетия, и ту интенсивность, которую мы могли бы накопить за эти десятилетия, они дают нам в другом масштабе времени – они компрессируют это время. То есть время некоего у-топоса. (Я ввожу классический термин «утопос», Вы знаете его по слову «утопия», но оно затаскано в нашем обыденном словоупотреблении, и смысл потерялся. Ведь действительный исходный смысл – топос, то есть место, у – негативная частица или отрицание; утопос – несуществующее место. Отсюда и родилось слово «утопия».) И вот, оказывается, несуществующие места, или утопосы, – весьма существенная конститутивная часть нашей души, нашей способности переживать что-то иначе, чем позволила нам природа. Природа нам позволила идти в последовательности и не позволила нам одновременно многого. Значит, мы не можем – ни долго, ни много. И вот есть у нас, оказывается, какое-то измерение утопоса, в котором иначе организуется наша сознательная жизнь. И все, что Пруст называет впечатлениями, есть как бы посланцы, гонцы другой организации сознательной жизни. Поэтому я вас предупреждал, что все это бред, когда говорят об импрессионистах, о Прусте, о Джойсе, о модерном искусстве, что это – субъективизм и замыкание людей в мире собственного сознания в пренебрежении к объективной реальности. То есть – вместо того, чтобы снять шляпу перед объективной реальностью (как есть вещи на самом деле), люди замыкаются в мельчайших своих ощущениях, впечатлениях (как, например, Фолкнер, Вирджиния Вульф). Я вас предупредил, что проблема состоит в том, что эти критики предполагают само собой разумеющимся существование объективной реальности, и само собой разумеется, что они знают, что такое объективная реальность. То есть достаточно посмотреть на нее, а не на себя, и ты увидишь. Когда ты посмотрел на себя и замкнулся в себе – это плохо. Так вот, вся проблема этого искусства состоит в том, что впечатления, которые имеют свой континуум развития, есть гонцы или посланники другой организации сознательной жизни, и эта другая организация сознательной жизни и есть проблема выхода на действительную реальность. Как раз то, что обычно мы называем объективной реальностью и в уходе от которой мы упрекаем художников, как раз это и есть майя, как говорили на Востоке. То есть – ирреальный туман. И впервые о том, что есть реальность, мы узнаем из впечатлений, и если двигаемся с ними, то мы решаем проблему выхода на то, каков мир на самом деле. Поэтому все эти сложности: смешение пластов времени, феноменологическое занятие развитием впечатления как такового или существование впечатления, а не чего-нибудь другого – все, что внешне выглядит у Пруста как копание во внутреннем субъективном мире, все это было проблемой не внутреннего субъективного мира, а проблемой выхода на реальность. И значит, что мы тогда получаем? В самом начале XX века произошел, и мы ощущаем это через текст Пруста, как бы геологический сброс, или перелом, человеческого мышления. Параллельно с творчеством Пруста в профессиональных философских местах этот же перелом, или сброс, мышления выражался в виде развития феноменологии и экзистенциализма. Иными словами, одним из признаков перелома была знаменитая проблема феноменологической редукции. Я сейчас коротко поясню, что это значит.
Во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что когда Пруст говорит о впечатлениях, он чаще всего говорит (не тогда, когда ему нужно развить эстетический эффект, а когда ему нужно, как бы со стороны посмотрев на себя, сказать, что это такое), что нужно воспринимать то, что он называет впечатлением, в последовательности его самого, а не в последовательности причины (чаще всего в таком сочетании) [231]. Во-вторых, когда мы имеем дело с прустовскими впечатлениями, мы видим, что чаще всего речь идет не о содержании впечатления, которое поддается ментальному развитию, а о существовании самого впечатления. Как бы само впечатление, а не его содержание. И вот здесь-то и заложены (я частично говорил об этом) все корни сложной феноменологической абстракции, которая требует от нас уловить существование впечатления как отличное от его же собственного содержания. Почему это нужно сделать? По одной простой причине: в содержании всегда заложено переживание нами этого содержания, а переживание нами любого содержания всегда имеет своим элементом представление о причине этого содержания или впечатления. А причины – содержат в себе то, что уже Гуссерль называл предпосылками, допущениями. Допущениями о том, как устроен объективный мир. И эти допущения должны и быть подвергнуты редукции. Иначе мы не услышим ничего. Мы не услышим того, что говорит нам впечатление. Представьте себе, что вы рады есть пирожное «мадлен», потому что оно вкусное, – я простое содержание вам привел. Ну, какое может быть содержание у пирожного «мадлен»? Пирожное есть предмет в объективном мире. Более того, мое восприятие этого предмета и моих состояний, вызванных этим предметом, всегда содержит в себе понимание или представление причины моих состояний. Если я рад или мне вкусно, то это потому, что пирожное таково. То есть качество пирожного вызвало во мне состояние, которое я переживаю (состояние радости, удовольствия). А теперь представьте себе, если бы Пруст таким образом понял свою собственную радость. Он не услышал бы того, что говорит впечатление, странным образом его волнующее. Странным – несводимым к материальному составу случившегося. Оно несводимо – пирожное есть пирожное; так же, как женщина есть женщина, – там тоже феноменологическая редукция нужна. Потому что отнюдь не само собой разумеется, что раз Альбертина обладает качеством A, поэтому у меня любовь к ней. Это не само собой разумеется. А у меня – любовь. Почему? Если не проделать феноменологической редукции, то потому, что Альбертина хороша. Тогда – если ты думаешь потому, что Альбертина хороша, – ты пробежишь весь инфернальный адский цикл всех иллюзий, разочарований и т д., которые пробегает наш автор, который, конечно, начинает с иллюзий. Но он-то начинает свой бег, такой, концом которого может быть разрубание, разрушение последней иллюзии, подлежащей уничтожению. Значит, – существование в отличие от содержания. Феноменологическая редукция. Так вот, феноменологическая редукция есть операция, посредством которой мы разрываем или приостанавливаем действие в себе экрана, который в нас существует. Приостанавливаем представление, понимание, что предметы – как причины, которые вызвали во мне те или другие состояния, есть экран между нами и миром. И редукция тебе говорит: приостанови. Она тебе не говорит, что пирожных в мире нет, что предметов в мире нет, что они не действуют на нас. Да нет, она требует сдвига понимания, подвешивания наших уже предсуществующих и причинностью наполненных, нагруженных представлений. Повторяю: подвешивание уже предсуществующих, причинностью нагруженных представлений. Она требует приостановки этого как бы автоматического действия каких-то предметных картин в нашей голове. А это самая большая проблема для человека. В нас есть предметные картинки, и они действуют на нас, и то, что нам кажется продуктами нашего мышления, есть просто проявление действия этих предметных картинок в нас. Неких, как выражался Пруст, кинокадров, которые нас завораживают своей сменой [232]. И тогда – что же оказывается феноменом? Феномен есть то (я сейчас сложную фразу, вернее, не сложную, а содержащую, так сказать, местоимение незаконным образом построю), что само себя в себе показывает.
230
C.G. – p. 48.
231
См.: T.R. – p. 874; Fug. – p. 532, 533.
232
См.: T.R. – p. 882.