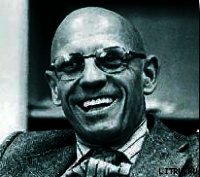Слова и вещи. Археология гуманитарных наук - Фуко Мишель (бесплатная регистрация книга txt) 📗
187
лее или менее быстрому и неравномерному прогрессу рациональности; оно не определено, без сомнения, и тем, что называют умственным развитием или «рамками мышления» данной эпохи, если под этим нужно понимать исторический характер спекулятивных интересов, верований или основополагающих теоретических воззрений. Это априори в определенную эпоху вычленяет в сфере опыта пространство возможного знания, определяет способ бытия тех объектов, которые в этом пространстве появляются, вооружает повседневное наблюдение теоретическими возможностями, определяет условия построения рассуждения о вещах, признаваемого истинным. Историческое априори, являющееся в XVIII веке основой исследований или споров о существовании родов, об устойчивости видов, о передаче признаков в ряду поколений, есть не что иное, как само существование естественной истории: организация некоторого видимого мира как области знания, определение четырех переменных описания, построение пространства соседствований, в котором может разместиться любая особь. В классическую эпоху естественная история не соответствует просто открытию нового объекта для проявления любопытства; она подразумевает ряд сложных операций, вводящих в совокупность представлений возможность устойчивого порядка. Она конституирует всю сферу эмпирического как доступную описанию и одновременно упорядочиванию. То, что роднит естественную историю с теориями языка, отличает ее от того, что мы начиная с XIX века понимаем под биологией, и заставляет ее играть в классическом мышлении определенную критическую роль.
Естественная история — современница языка: она располагается на том же самом уровне, что и спонтанная игра, анализирующая представления в памяти, фиксирующая их общие элементы, устанавливающая, исходя из них, знаки и в конечном счете приводящая к именам. Классифицировать и говорить — эти два действия находят свой источник в одном и том же пространстве, открываемом представлением внутри него самого, поскольку оно наделено временем, памятью, рефлексией, непрерывностью. Но естественная история может и должна существовать в качестве языка, не зависимого от всех остальных, если только она является хорошо построенным, имеющим универсальную значимость языком. В спонтанном и «плохо построенном» языке четыре исходных элемента (предложение, сочленение, обозначение, деривация) разделены между собой: практическое функционирование каждого из них, потребности или страсти, привычки, предрассудки, более или менее живое внимание образовали сотни различных языков, которые различаются не только формой слов, но прежде всего тем способом, каким эти слова расчленяют представление. Естественная история будет хорошо построенным языком лишь в том случае, если игра закончена, если описательная точность превращает любое
188
предложение в постоянное сечение реального (если всегда представлению можно приписать то, что в нем вычленено) и если обозначение каждого существа с полным правом указывает на занимаемое им место во всеобщей диспозиции целого. В языке универсальной и незаполненной является функция глагола; она предписывает лишь самую общую форму предложения, внутри которой имена приводят в действие свою систему сочленения. Естественная история перегруппировывает эти две функции в единстве структуры, сочленяющей все переменные, которые могут быть приписаны одному существу. В то время как в языке обозначение в своем индивидуальном функционировании доступно случайностям дериваций, придающих их широту и их сферу применения именам нарицательным, признак, как его устанавливает естественная история, позволяет одновременно отметить особь и разместить ее в каком-то пространстве общностей, которые соединяются друг с другом. Таким образом, поверх обычных слов (и посредством их, поскольку они должны использоваться для первичных описаний) строится здание языка второго порядка, в котором наконец правят точные Имена вещей: «Метод, душа науки, на первый взгляд обозначает любое природное тело так, что это тело высказывает свое собственное имя, а это имя влечет за собой все знания о теле, таким образом названном, которые могли быть достигнуты в ходе времени; так в крайнем хаосе открывается суверенный порядок природы» 1.
Однако это существенное именование — этот переход от видимой структуры к таксономическому признаку — связано с трудно исполнимым требованием. Для того чтобы реализовать и завершить фигуру, идущую от монотонной функции глагола «быть» к деривации и к охвату риторического пространства, спонтанный язык нуждается лишь в игре воображения, то есть в игре непосредственных сходств. Напротив, для того чтобы таксономия была возможной, нужно, чтобы природа была действительно непрерывной во всей своей полноте. Там, где язык требовал подобия впечатлений, классификация требует принципа возможно наименьшего различия между вещами. И этот континуум, возникающий, таким образом, в глубине именования, в зазоре между описанием и диспозицией вещей, предполагается задолго до языка и как его условие. И не только потому, что он сможет стать основой хорошо построенного языка, но и потому, что он обусловливает вообще любой язык. Несомненно, именно непрерывность природы дает памяти случай проявиться, когда какое-либо представление благодаря некоторому смутному и плохо понятому тождеству вызывает другое и позволяет применить к ним обоим произвольный знак имени нарицательного. То, что в воображении представлялось в ка-
1 Linn e. Systema naturae, 1766, p. 13.
189
честве слепого подобия, было всего лишь неосознанным и смутным следом громадной непрерываемой сети тождеств и различий. Воображение (позволяя сравнивать, оно делает язык возможным) создавало, хотя этого тогда не знали, амбивалентное место, где нарушенная, но упорная непрерывность природы соединялась с пустой, но восприимчивой непрерывностью сознания. Таким образом, нельзя было бы говорить, не имелось бы места для самого незначительного имени, если бы в глубине вещей до всякого представления природа не была непрерывной. Для построения грандиозной, лишенной пробелов таблицы видов, родов, классов было необходимо, чтобы естественная история использовала, критиковала, классифицировала и, наконец, сконструировала заново язык, условием возможности которого была бы эта непрерывность. Вещи и слова очень строго соединяются между собой: природа открывается лишь сквозь решетку наименований, и она, которая без таких имен оставалась бы немой и незримой, сверкает вдали за ними, непрерывно предстает по ту сторону этой сетки, которая, однако, открывает ее знанию и делает ее зримой лишь в ее сквозной пронизанности языком. Видимо, именно поэтому естественная история в классическую эпоху не может конституироваться в качестве биологии. Действительно, до конца XVIII века жизнь как таковая не существует. Существуют только живые существа. Они образуют один или, скорее, несколько классов в ряду всех вещей мира: и если можно говорить о жизни, то лишь исключительно как о каком-то признаке — в таксономическом смысле слова — в универсальном распределении существ. Обычно природные тела делились на три класса: минералы, у которых признавали рост, но не признавали ни движения, ни способности к ощущениям; растения, которые могут расти и способны к ощущению; животные, которые спонтанно перемещаются 1. Что касается жизни и порога, который она устанавливает, можно, согласно принятым критериям, соотносить их с этим разделением тел. Если, вместе с Мопертюи, жизнь определяют подвижностью и отношениями сродства, притягивающими одни элементы к другим и удерживающими их в таком состоянии, то нужно наделить жизнью наиболее простые частицы материи. Вместе с тем вынуждены располагать ее гораздо выше в ряду тел, если жизнь определяют посредством какого-то емкого и сложного признака, как это делал Линней, когда он фиксировал в качестве ее критериев рождение (посредством семени или почки), питание (посредством интуссусцепции), старение, передвижение вовне, внутреннее давление жидкостей, болезни, смерть, наличие сосудов, желез, кожного покрова и пузырьков 2.