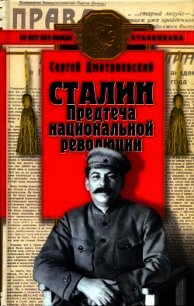Национал-большевизм - Устрялов Николай Васильевич (читать книги онлайн полные версии txt) 📗
Нужно было страхом заморозить сердца, сковать волю врагов, воссоздать дисциплину в армии и в разнуздавшихся массах. Для этого все средства были хороши и любые руки приемлемы. Устрашение должно быть прежде всего действенным.
Казнили крестьян («кулаков») и дворян, солдат и офицеров, интеллигентов и священников. Казнили сплошь и рядом даже не за личные проступки, а просто «за принадлежность к контр-революционному классу», связанному круговой ответственностью. За убийство комиссара в Тульской губернии платили жизнью домовладельцы Курска и Вологды, а за коварство офицера в Питере прощались с миром генералы в Смоленске и священники в Казани. Малейший повод обогащал газеты новыми столбцами безумия и ужаса.
Да, трудно было жить… Казалось, каждый (из людей нашего круга) мог ежедневно ждать своей очереди, и поэтому каждый с повышенной силой чувствовал (странный парадокс!) «аффект» жизни, — да, да, даже и такой, быть может, именно такой, ибо выбора не было… Так обреченные на смерть вдруг ощущают, как никогда, неизреченную радость бытия, — и в этой атмосфере смерти, помнится, неумолчно звенел в ушах отрывок уальдовской «баллады рэддингской тюрьмы» об осужденном на казнь:
Страна была вздернута на дыбы, и Революция, спасенная, торжествовала. Головы, опьяненные «февральской улыбкой», трезвели, а руки, поднимавшиеся в защиту Февраля, опускались в бессилии. «Нет, это вам не Керенский», — слышалось повсюду. Революция сбросила детскую рубашку и облеклась в тогу мужа. Но, Боже, что это была за тога: вся в крови, в кровавых пятнах, измятая, изорванная в борьбе, — в кошмаре преступлений, выдаваемых за подвиги, и в сиянии подвигов, похожих на преступления.
В сентябре мне довелось довольно неожиданно очутиться в Перми. И ужасы Москвы сразу померкли перед тем, что творилось здесь на границе советской республики, в непосредственной близости белого фронта, в царстве страшного уральского совдепа… Пришлось воочию удостовериться, как отражается на местах «твердая политика» центра.
В виду того, что все подозрительное (во главе с знаменитым епископом Андроником) было уже устранено раньше, — «классовая месть» обрушивалась на рядовых, индивидуально ни в чем неповинных представителей «буржуазии и интеллигенции». Чуть ли не кварталами расстреливались домовладельцы, ловили судебных деятелей, и даже аполитичнейший ректор университета и деканы факультетов были в один прекрасный день арестованы за «тайное сочувствие» белогвардейцам, и только телеграмма Луначарского уладила инцидент. Жестокость террора была до того невероятна, что даже Зиновьев приезжал из Петербурга и, как говорили, давал решительные «советы умеренности». Но «места», сами возбужденные центром, уже привыкли действовать «автономно» и ежедневные массовые казни вслепую продолжались и после зиновьевского визита. Уездные города не отставали от губернского. Утверждают, что в маленькой Осе погибло всего около двух тысяч человек, из них значительная часть — окрестные крестьяне. Да и по улицам Перми нередко можно было видеть партии бледных оборванных крестьян («кулаки»), проводившихся под конвоем молодцов из «батальона губчека» с камской пристани в чрезвычайку… Малейшего наговора оказывалось достаточно, чтобы человек шел на смерть. Какой-то сапожник в Осе был расстрелян за то, что год тому назад держал подмастерья, и, следовательно, «пользовался наемным трудом», т. е. принадлежал к «буржуазии»…
Пытки, больной садизм палачей, из которых многие потом кончали самоубийством, затравленные галлюцинациями, — все это факты, в достоверности которых не может быть сомнения.
Но поставленная цель была достигнута — красная власть спасена. «Не будь Чрезвычайных Комиссий, — мы не смогли бы тогда удержаться» — признавались потом большевистские лидеры, и трудно отрицать долю горькой истины в этих признаниях. Дни «улыбок», действительно, миновали. Революция унаследовала железный посох Иоанна Грозного, и «песьи головы» опричников воистину казались в глазах русских граждан лучшей эмблемой Чрезвычайки и ее служителей.
Однако террор не только спас революцию — он принялся проводить в жизнь коммунизм. Это было уже хуже преступления; — это была ошибка.
Самые мрачные и нечистые страницы истории чрезвычайки относятся именно к этой стороне ее деятельности. Борьба с контрреволюцией, несмотря на весь ее ужас и отвратительные эксцессы, была в основе своей все-таки осмысленна и кончилась победой, — борьба со «спекуляцией» была бессмысленна и кончилась поражением.
Словно повторялась практика французской революции, в свое время заклейменная Ройе-Колларом в одной из его парламентских речей: «Конфискация — это нервы и душа революции. Сначала конфискуют потому, что осудили, а потом начинают осуждать, чтобы можно было конфисковать; жестокость еще может утомиться, но алчность — никогда».
Политика реквизиций и конфискаций вызвала со всех сторон органический протест, а запрещение торговли — всеобщее неповиновение. Человек, решивший подчиниться коммунистическим декретам, умер бы с голоду через пару недель после своего решения: ибо «легально», кроме знаменитой восьмушки сомнительного хлеба и тарелки бурды из гнилого картофеля, достать было нечего. Вся страна, включая самих коммунистов, жила вопреки коммунистическим декретам, вся Россия «спекулировала», и естественно, что официальных оснований «карать» каждого гражданина можно было найти сколько угодно. И находили, и карали, и богатели, благоденствовали на карах…
«Большевиков не погубила контрреволюция, — их съест собственная чрезвычайка», — часто приходилось слышать такие пророчества. И, нужно сказать, в них был смысл…
Но революция оказалась умнее, чем о ней думали даже и очень умные люди. Она сумела сделать нечто большее, нежели победить своих врагов: она сумела победить собственные излишества. Она преодолевает не только жестокость, но и алчность своих агентов.
Миновал «военный период», кончились дни безоглядного коммунизма — и «топор республики» утратил основу бытия. Но в таких случаях он обычно сам начинает искать себе работу. И так как он — сила, то нередко и находит. «Они не посмеют отменить Чрезвычайку, — скорее она их отменит»…
И вот посмели… Это один из самых мудрых актов русской революции, и если только его удастся осуществить действительно и до конца, — много грехов ее отпустится ей…
А в плане времен страшные герои Чрезвычайной Комиссии предстанут перед судом истории, вероятно, рядом с кровавыми опричниками Грозного, во славу новой России не жалевшего представителей старой (боярскую аристократию удельного периода), и рядом с жуткими сподвижниками Великого Петра, перестроившего Русь на костях прекрасных людей старины и на крови тихого царевича Алексея.
Друзьям слева [135]
Между действительностью и мечтой громадная разница. Кто пренебрегает знанием действительности, тот вместо спасения идет к гибели.
Маккиавелли
I
С напряженным интересом читаешь статьи и корреспонденции представителей примиренческой интеллигенции из России. Лишенные формального штампа большевистской идеологии, свободные в своей аргументации от официальных коммунистических схем, они в то же время характерны бесспорной свежестью мысли, вдумчивым и непредвзятым отношением к революции, плодотворным сознанием всей исключительности совершающегося исторического сдвига. В корне преодолена в них обывательская неспособность подняться над изъянами революционного быта, чувствуется в них дыхание воздуха эпохи — творческое дыхание, глубоко воспринятое и сознательно усвоенное. Несомненно, нам, эмигрантам, есть чему поучиться из зарубежных статей и корреспонденций…