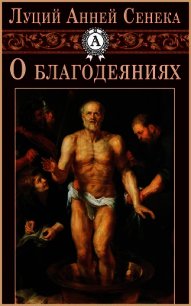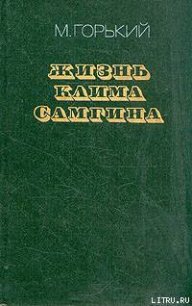Нравственные письма к Луцилию - Сенека Луций Анней (электронную книгу бесплатно без регистрации TXT) 📗
(18) Полезно также, направив мысли к другим предметам, отвлечь их от боли. Думай о том, как поступил ты честно и храбро, повторяй про себя, что во всем есть хорошая сторона, обрати свою память к тому, что тебя восхищало. Тогда тебе придет на помощь любой храбрец, победивший боль: и тот, кто продолжал читать книгу, покуда ему вырезали вздутые жилы, и тот, кто не переставал смеяться, когда палачи, разозленные этим смехом, пробовали на нем одно за другим орудия жестокости[5]. Неужели же разуму не победить боли, если ее победил смех? (19) Говори что хочешь о насморке, и о непрестанном кашле такой силы, что куски внутренностей извергаются наружу, и о жаре, иссушающем грудь, и о жажде, и о корчах, выворачивающих в разные стороны суставы рук и ног, — страшнее пламя, и дыба, и раскаленное железо, прижатое к вспухающим ранам, чтобы они открылись и углубились. Но есть такие, что не застонали под этими пытками; мало того и ни о чем не просили; мало того — и не ответили ни слова; мало того — и смеялись от души. Так не хочешь ли после этого посмеяться над болью?
— (20) «Но болезнь не дает ничего делать и уводит от всех обязанностей». — Нездоровье сковывает твое тело, а не душу. Пусть оно опутает ноги бегуну, окостенит руки портному или кузнецу. А ты, если привык к тому, что ум твой деятелен, будешь учить, убеждать, слушать, учиться, исследовать, вспоминать. Что же, по-твоему, быть умеренным в дни болезни значит ничего не делать? Ты докажешь, что болезнь можно одолеть или хотя бы вынести. (21) И в постели больного, поверь мне, есть место для добродетели. Не только с оружьем и в строю можно доказать, что дух бодр и не укрощен крайними опасностями: и под одеялом видно, что человек мужествен. У тебя есть дело — храбро бороться с болезнью, а если она тебя не покорила и ничего от тебя не добилась, ты подал славный пример. — «Поистине есть чем прославиться, если все будут глядеть, как мы хвораем!» Сам на себя гляди, сам себя хвали!
(22) Помимо того, есть два рода наслаждений. Телесные наслаждения болезнь ограничивает, но не отнимает, и даже, если рассудить правильно, делает острее. Приятнее пить, когда чувствуешь жажду, есть, когда голоден; после поста все поглощается с большею жадностью. А в удовольствиях душевных, которые и больше, и вернее, ни один врач больному не откажет. Кто предан им и понимает в них толк, тот презирает всякое ублажение чувств. (23) «О несчастный больной!» Почему? Да потому, что он не растапливает снега в вине, не охлаждает еще больше свое питье в объемистой посуде, взломав закупоривающий его лед, не открывают для него тут же за столом лукринских устриц[6], не хлопочут вокруг возлежащего за ужином повара, подтаскивая блюда вместе с жаровнями. Вот до чего додумалась страсть к роскоши: чтобы яства не остыли, чтобы не казались они недостаточно горячими потерявшему чувствительность нёбу, кухню волокут вместе с кушаньями. (24) О несчастный больной! Он ест, сколько может переварить; не положат перед ним на стол кабана, чтобы полюбоваться им, а потом отослать обратно: ведь это мясо слишком дешевое! Не навалят для него на поднос птичьих грудок, потому что от вида целых птиц его тошнит. Что тебе сделали плохого? Ты будешь есть, как больной, вернее — как здоровый.
(25) Но все это мы вытерпим с легкостью: и отвары, и теплую воду, и все то, что кажется несносным для изнеженных, потонувших в роскоши и расслабленных скорее душою, чем телом. Только бы перестать бояться смерти! Чтобы этого достичь, надо познать пределы добра и зла — тогда и жизнь не будет нам тягостна, и смерть не страшна. — (26) Пресыщение жизнью не может отравить жизнь, в которой столько разных великих и божественных дел: только ленивая праздность заставляет ее ненавидеть самое себя. Кто странствует по всей шири природы, тому никогда не наскучит истина; только ложью можно пресытиться. (27) А если явится и позовет смерть, пусть преждевременная, пусть обрывающая жизнь посредине, плод этой жизни давно отведан: ведь такой человек познал природу в большей ее части и знает, что от времени честности не прибавляется. Тем всякий век непременно покажется коротким, кто мерит его пустыми и потому бесконечными наслаждениями.
(28) Поддерживай свои силы этими мыслями, а на досуге и моими письмами. Придет время, которое вновь соединит нас и сольет воедино; как бы ни было оно кратно, нам продлит его уменье им пользоваться. Потому что, как говорит Посидоний, «один день человека образованного дольше самого долгого века невежды». (29) Вот что помни, вот что удержи прочно: не падай духом в несчастье, не верь удачам, всегда имей в виду произвол фортуны, словно она непременно сделает все, что может сделать. Чего мы ждем задолго, то для нас легче, когда случается. Будь здоров.
Письмо LXXIX
Сенека приветствует Луцилия!
(1) Я жду от тебя писем с известиями о том, что нового показала тебе поездка по всей Сицилии, и прежде всего — сведений о Харибде. О том, что Сцилла — это утес, ничуть не страшный проплывающим мимо, я знаю очень хорошо; а вот о том, соответствуют ли истине рассказы о Харибде, ты мне, пожалуйста, напиши подробнее. И если тебе случится наблюдать ее (ведь дело того стоит), сообщи мне, один ли ветер закручивает там воду воронками или любая буря одинаково гонит ее; и еще — правда ли, что все подхваченное тамошним водоворотом уносится под водою на много миль и выныривает у Тавроменийского берега. (2) Если ты мне об этом напишешь, тогда я осмелюсь поручить тебе взойти в мою честь на Этну, которая будто бы разрушается и мало-помалу становится ниже, как утверждают некоторые на том основании, что прежде, мол, она была видна мореходам из большей дали. Но это может быть и не потому, что высота горы стала меньше, а потому, что огонь притих и вздымается не так бурно и широко; по той же причине и дым она выбрасывает день ото дня все ленивее. Оба явления вероятны — и то, что ежедневно пожираемая гора уменьшается, и то, что она остается прежней высоты, потому что огонь ест не её[1], а, разгоревшись в некой подземной полости, в ней и питается, гора же дает ему не пищу, но только путь наружу. (3) В Ликии хорошо известна область, которую местные жители называют Гефестион: почва там вся в отверстиях, и по ней блуждает безвредное пламя, не причиняя ущерба тому, что на ней родится. Область эта плодородна и богата растительностью, и огонь не палит, а только блестит, настолько он не горяч и бессилен.
(4) Но с этим исследованьем подождем до тех пор, когда ты напишешь мне, далеко ли от жерла горы лежит снег, не растапливаемый и летним зноем, а бушующим по соседству огнем — и подавно. Во всех таких хлопотах тебе нет причины винить меня: ты пошел бы на это и без чужого поручения, ради собственной страсти, (5) коль скоро ты описываешь Этну в стихах и касаешься этого священного для всех поэтов места. Овидию взяться за этот предмет не помешало то обстоятельство, что он был уже исчерпан Вергилием; и оба поэта не отпугнули Корнелия Севера[2]. Это место оказалось счастливо для всех, а предшественники, на мой взгляд, не предвосхитили всего, что можно о нем сказать, а только открыли подступы. (6) Ведь большая разница, берешься ли ты за предмет исчерпанный или только разработанный, который становится со дня на день изобильнее, ибо найденное не мешает новым находкам. К тому же положение у последнего — наилучшее: он находит готовые слова, которые приобретают новый облик, будучи расположены по-иному, и при этом не присваивает чужого, потому что слова — общее достояние, а оно не становится собственностью за давностью владения, как утверждают правоведы. (7) Или я тебя не знаю, или у тебя при виде Этны слюнки потекут. Тебе очень хочется написать что-нибудь величавое, равное написанному прежде. Надеяться на большее тебе не позволяет твоя скромность, а она у тебя такова, что ты, мне кажется, стал бы обуздывать свое дарование, если бы была опасность победить предшественников, столь тобою чтимых.