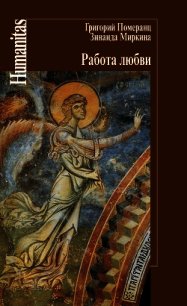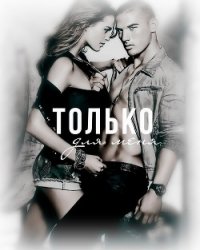Открытость бездне. Встречи с Достоевским - Померанц Григорий Соломонович (читать книги без регистрации TXT) 📗
Невозможно списать пророческую характеристику полунауки на Шатова; слишком органична она для Достоевского, слишком вытекает из философских страниц «Подполья» и уточняет их: именно полунаук а уморила голодом и холодом 13 миллионов крестьян в Евразии, а потом 6 миллионов евреев и цыган в Третьей империи, а потом еще пару миллионов в Кампучии. Разум и наука не могут сами создать нравственность, но они участвуют в работе духа; ничего положительно безнравственного в разуме и науке нет. «Страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны» – только полунаука. Это одна из глубочайших мыслей Достоевского. Думаю, что и весь монолог Шатова неотделим от Достоевского. Хотя Достоевский подчеркивает юношескую восторженность героя, неряшливость его мысли, и благонамеренно-честное сознание вяло возражает (устами Ставрогина): «Вы Бога низводите до простого атрибута народности». «Напротив, народ возвожу до Бога! – отвечает Шатов. – Если великий народ не верует, что в нем одном истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Истинно великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве, или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь бога истинного, хотя бы остальные народы имели своих особых и великих богов».Во всех этих рассуждениях я пишу слово «бог» со строчной буквы. Это языческие боги древних племен и народностей. Если свезти их в одно место и установить рядышком в пантеоне, то действительно это говорит о распаде племенной и народной нравственности, и рассудочный плюрализм римских императоров не в состоянии остановить его. Впрочем, и на таком уровне неверно, что «чем сильнее народ, тем особливее его боги»; римляне были очень сильным народом, но боги их мало отличались от греческих. Особливее всех Бог евреев, но евреи никогда не были политически сильны, и это не парадокс, это правило. За особливое вероисповедание хватаются и позже политически слабые народы, лишенные государственных границ: армяне, сирийцы, ассирийцы, ливанцы, копты. В особом вероисповедании (монофизитском, несторианском, монофелитском) была незримая граница их царства.
Почему особливость понадобилась Шатову (и не только ему одному) – вопрос, который обсуждался в «Искусстве кино», 1988, № 6. Во всяком случае Шатов бессознательно смешивает народное чувство с имперским, с иллюзией византийцев, для которых мировая религия была тождественна мировой империи. Примерно такова же была иллюзия халифата. Но мировое развитие разошлось с имперским путем. В рамках единой мировой религии сложились разные нации. Вопреки Шатову, у них с самого начала общие христианству (или исламу) понятия о добре и зле, но от этого англичане и французы, немцы и итальянцы не превратились в этнографический материал. Напротив, этнографичны дикие племена, у каждого из которых, действительно, свои особливые представления о зле и добре; но от этого бушмены и папуасы не превзошли христианскую цивилизацию. Христианизация или исламизация не связана с нравственным упадком; напротив, заповеди единого Бога нравственно определеннее, чем племенные табу.
Нелепости, переплетающиеся с гениальными прозрениями, хочется как-то понять, найти в них какой-то, пусть искаженный смысл. Думаю, что Шатов (и Достоевский) очень мало вникают в мировой исторический процесс и выхватывают из него отдельные факты, вне общей связи, чтобы как-то компенсировать нечто никем не описанное, происходящее у них на глазах, – нравственную мешанину, возникшую при европеизации России, то есть при переходе из византийской цивилизации в западную. Понятие культурного круга, культурного мира, теория вестернизации – все это было разработано только в XX веке. Достоевский чувствует потрясение основ и противопоставляет ему миф, укрепляющий чувство тождества с собой. Рационалистической Европе противопоставляется мифическая Россия.
«Дневник» продолжает мифотворчество, начатое Шатовым. «Что святее и чище подвига такой войны, которую предпринимает теперь Россия? – пишет Достоевский в «Дневнике писателя». – О да, да, конечно – мы не только ничего не захватим у них и не только ничего не отнимем, но именно тем самым обстоятельством, что чрезмерно усилимся (союзом любви и братства, а не захватом и насилием), – тем самым и получим наконец возможность не обнажать меча, а напротив, в спокойствии силы своей явить собою пример уже искреннего мира, международного всеединения и бескорыстия. Мы первые объявим миру, что не через подавление личностей иноплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собственного преуспеяния, а напротив, видим его лишь в свободнейшем и самостоятельнейшем развитии всех других наций и в братском единении с ними, восполняясь одна другою, прививая к себе их органические особенности и уделяя им и от себя ветви для прививки, сообщаясь с ними душой и духом, учась у них и уча их, и так до тех пор, когда человечество, восполнясь мировым общением народов до полного единства, как великое и великолепное древо, осенит собою счастливую землю» (т. 25, с. 99–100).
Помню, с каким воодушевлением я это читал 50 лет тому назад; но, к несчастью, такой России, о которой пишет Достоевский, никогда не было и сейчас нет. Если же провести сравнение логически корректно, на одном уровне близости к фактам, то выводы будут противоположными. Западные страны, достигшие национальной консолидации, с XVI века существуют примерно в одних и тех же границах, и если границы менялись, и не всегда справедливо, то ненамного. Самый агрессивный французский националист не хотел сделать Испанию или Германию Францией. На востоке же Европы (и дальше в Азии) господствовали империи, поглощавшие полностью целые народы. Начиная с XVI века Московия, а потом Российская империя поглотила царства Казанское, Астраханское, Сибирское, Эстляндию, Курляндию, Финляндию, Польшу, Молдавию, Грузию, Армению, Азербайджан, Хиву и Бухару. Насколько это было выполнено в братском единении, восполняясь в любви и общаясь душою и духом, можно судить по афоризму современника Достоевского, графа Муравьева-Виленского: «Муравьевы делятся на тех, которых вешают, и на тех, которые вешают». Журнал Достоевского «Время» был запрещен за слабую попытку H. Н. Страхова прикоснуться к этой опасной теме. Но сила страсти полемического мига так велика, что она выталкивает из памяти жизненный опыт. И можно писать о русском духе всеобъемлющей любви, понося в то же время поляков и евреев, поглощенных государственной любовью, а туркам (которым как раз предстояло такое поглощение) высокомерно определить занятие – торговать мылом и халатами и ни о чем лучшем не мечтать. Страсть (подобно Цезарю) выше грамматики.
Захваченный своей мессианской мечтой, Достоевский сметает с пути все фактические препятствия. Война так война; и даже очень хорошо, что война; война вообще лучше мира и гуманнее, чем мир:«Биржевики, например, чрезвычайно любят теперь толковать о гуманности. И многие, толкующие теперь о гуманности, суть лишь торгующие гуманностью. А между тем крови, может быть, еще больше бы пролилось без войны (я прошу обратить внимание на это замечательное «может быть». – Г. П.). Поверьте, что в некоторых случаях, если не во всех почти (кроме разве войн междоусобных), – война есть процесс, которым именно (подчеркнуто Достоевским. – Г. П.), с наименьшим пролитием крови, с наименьшею скорбию и с наименьшей тратой сил, достигается международное спокойствие и вырабатываются, хоть приблизительно, сколько-нибудь нормальные отношения между нациями. Разумеется, это грустно, но что же делать, если это так. Уж лучше раз извлечь меч, чем страдать без срока. И чем лучше теперешний мир между цивилизованными нациями – войны? Напротив, скорее мир, долгий мир зверит и ожесточает человека, а не война. Долгий мир всегда (тут мне хочется подчеркнуть: «всегда». Уже не в некоторых и не во всех почти случаях, а всегда. – Г. П.) родит жестокость, трусость и грубый, ожирелый эгоизм, а главное – умственный застой. В долгий мир жиреют лишь одни палачи и эксплуататоры народов (...) Лишь искусство поддерживает еще в обществе высшую жизнь и будит души, засыпающие в периоды долгого мира. Вот отчего и выдумали, что искусство может процветать лишь во время долгого мира, а между тем тут огромная неверность: искусство, то есть истинное искусство, именно и развивается потому во время долгого мира, что идет вразрез с грузным и порочным усыплением душ...» (т. 25, с. 101–102).