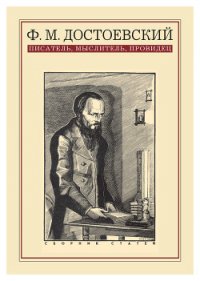Основные феномены человеческого бытия - Финк Э (версия книг .txt) 📗
Нам кажется, что такое понимание игры неправильно. Здесь основанием анализа делается определенное эстетическое или даже эстетизирующее отношение к природе, но это основание остается в тени и явно не признается. Световые эффекты и скользящие тени столь же реальны, как и вещи, которые они освещают или затемняют. Природные вещи окружающего нас мира всегда выступают при определенных обстоятельствах своего об-стояния: на рассвете, под бросающим тень облачным небом, в сумеречной ночной тьме, полной лунного сияния. И каждая вещь на берегу водоема бросает свое зеркальное отражение на поверхность воды. Так что так называемые игры света и тени -- не более чем лирическое описание тех способов, какими даны нам вещи окружающего мира. Естественно, мы не случайно используем подобные "метафоры", говорим об игре волн или об игре световых бликов на водной зыби. Однако не сама природа играет, поскольку она есть непосредственный феномен, а мы сами, по существу своему игроки, усматриваем в природе игровые черты, мы используем понятие игры в переносном смысле, чтобы приветствовать вихрь прекрасного и кажущегося произвольным танца света на волнующейся водной поверхности. На деле танец света на тысячегранных гребешках волн никогда не "произволен", никогда не свободен, никогда он не бывает исходящим из себя творческим движением. Нерушимо и недвусмысленно здесь властвуют оптические законы. Световые эффекты -- "игра" в столь же малой степени, в какой гребешки волн, с их ломающимися пенными гребнями, -- белогривые кони Посейдона. Поэтические метафоры здесь с наивным правом может использовать грезящая, погруженная в прекрасную видимость душа -- но не человек, который мыслит, постигает и занимается наукой или который занят выработкой философского понятия игры. Мы не хотели этим сказать, что не может и не должно быть осмысленного переноса идеи игры на внечеловеческое сущее. Там, где метафорическое или символическое понимание игры оказывается шире человеческой сферы, необходимо просто критически выверить и разъяснить оправданность, смысл и пределы подобного перехода границ. Но ни в коем случае не следует отдаваться полупоэтической манере эстетизирующего созерцания природы. Проблема "антропоморфизма" столь же стара, как и стремление европейской метафизики выработать онтологические и космологические понятия. То понимание бытия и мира, которого мы можем достичь, всегда и неизбежно будет человеческим, то есть пониманием бытия и мира конечным созданием, которое рождается, любит, зачинает и рожает, которое трудится и борется, играет и умирает. Элеат Парменид сделал попытку помыслить бытие в чистом виде, исходя из него самого, а с другой стороны, представить понимание бытия человеком как ничтожное и иллюзорное: он попытался мысленно взглянуть глазами бога. Но его мышление осталось вместе с тем связанным с неким путем, hodos dizesios (фрагм. 2), путем исследования. То же можно сказать и о Гегеле, который переосмыслил путь человеческого мышления в путь бытия, самопознающего себя в человеке и благодаря человеку. Антропоморфизм не преодолевается просто отказом от наивного языка образов и заменой его строгими понятиями. Наша голова, мыслящий мозг не менее человечны, чем наши органы чувств.
Для проблемы игры из этого следует, что игра есть онтологическая структура человека и путь человеческой онтологии. Содержащиеся здесь соотношения между игрой и пониманием бытия могут быть замечены лишь тогда, когда феномен человеческой игры будет достаточным образом разъяснен в своей структуре. Наш анализ с самого начала отказался от того поэтизирующего способа рассмотрения, который надеется обнаружить феномен игры повсюду, где вольная, наивная в своем антропоморфизме речь метафорически говорит об "игре" -- например, о серебристых лунных лучах на волнуемой ветром морской поверхности. По видимости "более широкое" понятие игры, включающее в себя "игры" луны, воды и света наравне с играми колышащейся нивы, детеныша животного или человеческого ребенка, а то и вовсе -- ангела и бога, в действительности не дает ничего, кроме эстетического впечатления, впечатления витающей необязательности, прекрасного, произвола и сценической замкнутости. Мы настаиваем на том, что игра в основе своей определяется печатью человеческого смысла. Выше мы упомянули в нашем изложении моменты протекания игры: настроение удовольствия, которое может охватывать и свою противоположность -- печаль, страдание, отчаяние, пребывающее в себе "чистое настоящее", не перебиваемое футуризмом нашей повседневной жизни; затем мы перешли к разъяснению правил игры как самополагания и самоограничения игроков и коснулись коммуникативного характера человеческой игры, играния-друг-с-другом, игрового сообщества, чтобы наконец наметить тонкое различие между "средством игры" и "игрушкой". Особо важным нам представляется различение внешней перспективы чужой игры, в которой зритель не принимает участия, и внутренней перспективы, в которой игра является игроку. Деятельность игрока есть необычное производство -- производство "видимости", воображаемое созидание и все же не ничто, а, скорее, порождение какой-то нереальности, которая обладает чарующей и пленяющей силой и не противостоит игроку, но втягивает его в себя. Понятие "игрок" столь же двусмысленно, как и понятие "игрушка". Подобно тому как игрушка является реальной вещью в реальном мире и одновременно вещью в воображаемом мире видимости с действующими только в нем правилами, так и игрок есть человек, который играет, и одновременно человек согласно его игровой "роли". Играющие словно погружаются в свои роли, "исчезают" в них и скрывают за разыгранным поведением свое играющее поведение.
"Игровой мир" -- ключевое понятие для истолкования всякой игры-представления. Этот игровой мир не заключен внутри самих людей и не является полностью независимым от их душевной жизни, подобно реальному миру плотно примыкающих друг к другу в пространстве вещей. Игровой мир -- не снаружи и не внутри, он столь же вовне, в качестве ограниченного воображаемого пространства, границы которого знают и соблюдают объединившиеся игроки, сколь и внутри: в представлениях, помыслах и фантазиях самих играющих. Крайне сложно определить местоположение "игрового мира". Феномен, с которым легко обращается даже ребенок, оказывается почти невозможно зафиксировать в понятии. Маленькая девочка, играющая со своей куклой, уверенно и со знанием дела
движется по переходам из одного "мира" в другой, она без труда снует из воображаемого мира в реальный и обратно и даже может одновременно находиться в обоих мирах. Она не становится жертвой обмана или самообмана, она знает о кукле как игрушке и одновременно об игровых ролях куклы и себя самой. Игровой мир не существует нигде и никогда, однако он занимает в реальном пространстве особое игровое пространство, а в реальном времени -- особое игровое время. Эти двойные пространство и время не обязательно перекрываются одно другим: один час "игры" может охватывать всю жизнь. Игровой мир обладает собственным имманентным настоящим. Играющее Я и Я игрового мира должны различаться, хотя и составляют одно и то же лицо. Это тождество есть предпосылка для различения реальной личности и ее "роли". Определенная аналогия между игрой и картиной поможет нам несколько это прояснить. Когда мы рассматриваем предметное изображение, представляющее какую-то вещь, мы совершенно свободно можем различить: висящая на стене картина состоит из холста, красок и рамки, а также изображенного на ней пейзажа. Мы одновременно видим реальные и представленные на картине вещи. Краска холста не заслоняет от нас цвет неба в изображенном пейзаже, напротив: сквозь цвет холста мы просматриваем краски вещей, изображенных на картине. Мы может также различить реальные краски и представленный ими цвет, место в пространстве и размеры единого предмета "картина" и пространственность внутри картины, изображенную на ней величину вещей. Стоя у изображающей пейзаж картины, мы словно смотрим на простор за окном -- сходно с этим, но все же не точно так же. Картина позволяет нам заглянуть в "образный мир", мы вглядываемся через узко ограниченный кусок пространства, охваченный рамой, в некий "пейзаж", но при этом знаем, что он не раскинулся за стеной комнаты, что действие картины сходно с действием окна, но на деле не является таковым. Окно позволяет выглянуть из замкнутого пространства на простор, картина -- вглядеться в "образный мир", который мы видим фрагментарно. Свободное пространство за окном переходит в пространство комнаты не прерываясь. Напротив, пространство комнаты не переходит непрерывно в пейзажное пространство картины, оно определяет только то, что есть в картине "реального": изрисованное полотно. Пространство образного мира -- не часть реального пространства, в котором занимает какое-то определенное место и картина как вещь. Находясь в каком-то определенном месте реального пространства, мы вглядываемся в "нереальное" пространство пейзажа, принадлежащего к образному миру. Изображение нереального пространства использует пространство реальное, но они не совпадают. Важно не то, на чем основывается иллюзорное, лучше -- воображаемое, явление пейзажа образного мира, действительно ли и каким образом осознанные и освоенные иллюзионистические эффекты стали использоваться как художественные средства искусства для создания идеальной видимости. В нашем контексте важно отметить ту свободу и легкость, с какой мы принимаем различение картины и изображенного на ней "образного мира" (не употребляя никаких понятийных различений). Мы не смешиваем две области: область реальных вещей и область вещей внутри картины. Если же случится подобное смешение, то мы вовсе не заметим никакой "картины". Восприятие картины (не касаясь здесь художественных проблем) относится к объективно наличной "видимости", представляющей собой медиум, тот, в котором мы видим пейзаж образного мира. В самом образном мире -- опять же реальность, но не та, в которой мы живем, страдаем и действуем, не подлинная реальность, а как бы "реальность". Мы можем представить себя внутри пейзажа образного мира и людей, для которых образный мир означал бы их "реальное окружение"; они оказались бы субъектами внутри мирообраза данного образного мира, мы же -- субъектами восприятия изображения. Мы находимся в иной ситуации, чем изображенные на картине люди. Мы одновременно видим картину и видим внутри картины, находимся в реальном сосуществовании с другими наблюдателями картины и в как-бы-сосуществовании с лицами внутри образного мира. Положение дел, однако, еще более запутано следующими обстоятельствами. Поскольку всякое изображение, отвлекаясь от присущего ему "образного мира", нуждается также и в реальных носителях изображения (полотно, краски, зеркальные эффекты и т.д.) и оказывается в этом отношении частью простой реальности, картина снова может быть изображена на другой картине, и так мы сталкиваемся с повторениями (итерацией) образов. Например, картина изображает "интерьер", культивированное внутреннее пространство с зеркалами и картинами на стенах. Тогда декорация образного мира относится к имеющимся внутри него картинам как наша реальность -- ко всей картине как таковой. Модификация "как бы" образной "видимости" может быть воспроизведена -- нам легко представить себе картины внутри картин образного мира. Но разгадать итерационные отношения не так-то легко. Лишь в воображаемом медиуме образной видимости кажется возможным сколь угодно частое воспроизведение отношения реальности к образному миру; в строгом смысле, образность высшего порядка ничего не прибавляет к воображаемому характеру картины. Изображение внутри изображения не является более воображаемым, чем исходное изображение. Усиление, которое мы, наверное, интенционально понимаем, само есть только "видимость".