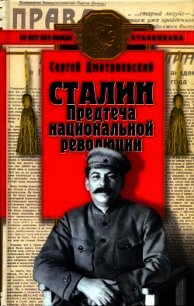Национал-большевизм - Устрялов Николай Васильевич (читать книги онлайн полные версии txt) 📗
Однако это не значит, что наш герой напоминал современных политологов — плоских и банальных, не видящих ничего кроме «рейтингов» и «финансовых потоков». Свой особый взгляд на «мир как целое» у него безусловно был. Я бы выделил три главных устряловских «экзистенциала». Первый — принятие мира. Принятие принципиальное, пожалуй, даже тотальное: «Узнаю тебя жизнь! Принимаю! // И приветствую звоном щита!»… Если продолжить «лирическое отступление», то как тут не вспомнить, проводимую из книги в книгу Л.Н. Гумилева, антитезу жизнеутверждающей и жизнеотрицающей идеи, иллюстрируемую цитатами из Гумилева-отца и Заболоцкого. Устрялов безоговорочно с теми, кто подобно творцам акмеизма и теории «пассионарности» уверен, что «мир прекрасен и прекрасна смерть, сопутствующая жизни…»:
Уместно будет припомнить отношение к смерти, как к главному злу, у Вл. Соловьева, чтобы лишний раз подчеркнуть чуждость основным интуициям «пророка всеединства» некоего усердного участника общества его памяти. «И вьется, уходит в бескрайнюю даль живописная, чудесная дорога… Да, живописная, чудесная…но вместе с тем какая страшная, взлохмаченная, кровавая!.. Нужно понять и полюбить ее такою», — Устрялов любуется именно «таким», «здесь и сейчас» пребывающим миром, «непреображенным», «непросветленным», «нечистым», как любили и любят выражаться идеалистические профессора, упивающиеся в тепле уютных кабинетов возвышенными фантазиями. В последней фразе приведенного выше пассажа есть неточность: конечно же, сначала «полюбить», а потом уже «понять»… «Полюбить жизнь прежде ее смысла» — лучший ответ на: «…я мира Божьего не принимаю». Опять «аллюзии»?.. Нет, тут не литература, тут «живая жизнь», «клейкие листочки», целование земли… [14]
Из такого мировосприятия естественным образом вытекает фаталистический оптимизм: «<…>всегда жило во мне некое сверхлогическое убеждение, что «все благо»« [15]. Нет, не прогрессистские благоглупости и не вера в «окончательную гармонию». Напротив, восприятие трагедии как нормы человеческого существования, от которой не избавляет никакое движение вперед, но само это движение радостно приветствуется, ибо оно причастно к творческому ритму мировых стихий: amor fati! Новое хорошо просто тем, что оно новое, от нового одряхлевший мир на время свежеет, разглаживает морщины, «набухает вселенской душой»: «Прогресс — не в беспрестанном линейном «подъеме», а в нарастании бытийности, в растущем богатстве мотивами. При этом совсем не обязательно, чтобы последующий мотив непременно был «совершеннее» предыдущего. Но он всегда прибавляет «нечто» к тому, что было до него». Подобный взгляд на вещи не может не привести к примату эстетики над этикой (вполне вероятно, впрочем, что, наоборот, последний и порождает все предыдущее). Еще в ранней работе 1916 г. «К вопросу о сущности национализма» приват-доцент Устрялов четко сформулировал: «<…> начало Красоты выше и «окончательнее», нежели начало Добра». Проходят годы (и какие годы!), но профессор Харбинского Юридического факультета не перестает испытывать эстетическое наслаждение от «глубокой, страшной и прекрасной сложности жизни». Нет, конечно «соловьевством» здесь и не пахнет, здесь, коли уж говорить о влияниях, все заволокло «сумрачным германским гением» — Фридрихом Ницше. И еще одна «реакционная», подозрительная для адептов «всеединства» тень (на сей раз русская) витает над вдохновением идеолога национал-большевизма — тень ницшевского «брата-разбойника» из Калужской губернии (устряловский земляк!) — Константина Леонтьева.
Эстетов, как правило, не привлекает цивилизационный универсализм, они обожают многоцветие непохожих друг на друга культур. Изощрившийся в гегелевской диалектике, очень многим ей обязанный, Устрялов, тем не менее, не воспринял исторической однолинейности и европоцентризма автора «Феноменологии духа», примкнув к «циклической» традиции в историософии: Вико, Герцен, Данилевский, тот же Леонтьев (как «свой» был принят позднее Шпенглер). Уже в статье 1916 г. «Национальная проблема у первых славянофилов» присутствует типичное для этой традиции сравнение наций и человеческих индивидуальностей. Впоследствии, в Харбине Устрялов настаивал на том, что «жизнь человечества не может быть сведена к узкому единству отвлеченного космополитизма, ибо представляет собой своего рода радугу расовых особенностей и национальных культур», унификация мира невозможна — против нее «неотразимое сопротивление жизни». Характерен в этом смысле очерк 1925 г. «Образы Пекина», проникнутый восхищением перед силой самобытности китайской культуры и острой неприязнью к попыткам ее вестернизации: но «не превратишь старый дуб в яблоню» (афоризм явно из данилевско-леонтьевского словаря), — с удовлетворением констатирует автор. В то же время, Устрялов вовсе не отрицает интеграционные процессы XX века, он менее всего мирный «самобытнник — регионалист» a la Леви-Стросс, — дилемма универсального и национально-своеобычного снимается для него в идее великой многонациональной империи. Существование наций — не сентиментальная идиллия, а борьба за право на осуществление своих имперских идей: «Всемирная история <…> представляется нам ареною <…> постоянных состязаний государств, <…> постоянной конкуренции национальных «идей»«. Поэтому великая нация возможна только в великом государстве.
Вот мы и дошли до главного, ключевого понятия мировоззрения харбинского мыслителя. Государство. Устрялов его поэт, мистик, апологет, страстотерпец. Оно имеет для него абсолютную ценность, ему посвящаются проникновенные гимны: «Государства — те же организмы, одаренные душою и телом, духовными и физическими качествами. Государство — высший организм на земле, и не совсем не прав был Гегель, называя его «земным богом». Оно объемлет собою все, что есть в человечестве ценного, все достояние культуры, накопленное веками творчества. Государство — необходимое условие конкретной нравственности, через него осуществляется в жизни Добро». И здесь Устрялов решительно противостоит полуанархическим воззрениям героев своих научных штудий — ранних славянофилов, чье наследие он в целом оценивал исключительно высоко: «<…> глубоко ошибочной должна быть признана их теория, резко отделяющая «Государство» от «Земли». Эти начала нераздельны и принципиально, и фактически. Государство есть познавшая себя в своем высшем единстве, внутренно просветленная Земля. Земля без Государства — аморфная, косная масса, Государство без Земли — просто nonsens, голая форма, лишенная всякой реальности». Великое государство реализует себя только на великих просторах. Николай Васильевич не боялся принять родину в любых, самых страшных обличиях. Только одно, кажется, пугало его по-настоящему: расчлененная Россия, — ведь она бы тогда лишилась души, — территория, полагал он, и есть душа народа.
В устряловском государственническом пафосе, несомненно, слышен отзвук германского этатизма, философски обоснованного Гегелем и Фихте, исторически подкрепленного Моммзеном и Трейчке, художественно воспетого Клейстом и Геббелем. Конкретная, «тактическая» политология лидера национал-большевизма, безусловно, густо замешана на пугающем реализме рекомендаций «великого флорентийца» Макиавелли, к коему восходит кардинальный устряловский тезис: «нравственная политика есть реальная политика» (как все это далеко от детского лепета о «христианской политике» Соловьева и Трубецкого!) Но и в русской культуре, якобы абсолютно «анархической», ему было что почерпнуть. Карамзин, Пушкин, Погодин, С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин, Катков, Р.А. Фадеев, Леонтьев, Победоносцев, — все они, при порой кричащих противоречиях, сходились в одном: единственная творческая сила в России — государство, русское же общество — аморфно, неструктурированно и потому лишено созидательного начала («мартобрь» 1917-го дал много материала для подтверждения этой мысли). Наиболее близким по времени (и соответственно, наиболее сильным) стало влияние на молодого правоведа концепции либерального империализма П.Б. Струве («Великая Россия»), с ее принципиальным положением о приоритете внешней политики над внутренней. Публицистика харбинского мыслителя буквально пронизана струвовскими реминисценциями, — от заглавий статей до скрытых и открытых цитат. Устрялов совершенно справедливо считал себя учеником Струве, лучшим учеником, — добавлю от себя. С последним никогда бы не согласился Петр Бернгардович, но это «обычная история»: старшие всегда ставят не на тех, по остроумному наблюдению С.С. Аверинцева.