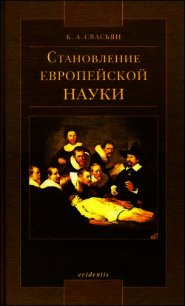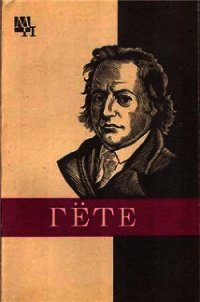ФИЛОСОФИЯ СИМВОЛИЧЕСКИХ ФОРМ Э. КАССИРЕРА - Свасьян Карен Араевич (читать книги полностью без сокращений бесплатно .TXT) 📗
Возможно ли универсальное определение культуры? Положительный ответ на этот вопрос зависит от того, насколько мы в состоянии довести абстрактное понятие культуры до живого представления о ней. Культура в целом — это не только совокупность входящих в нее элементов, но и организация этих элементов, более того, она — единство, предшествующее частям и придающее им смысл и оправдание. Каждая отдельная часть, абстрагированная от целого, бессмысленна, как бессмысленна и каждая отдельная часть, притязающая на целое. Без этого связующего единства феномен культуры обречен на неизбежный распад; взгляду предстает некая Вавилонская башня многоязычия, мощная центробежная сила, несущаяся множеством радиусов к периферии круга и порождающая культурные продукты в виде автономных доминионов науки, искусства, мифа, религии, которые, в свою очередь, распадаются на множество форм с явной угрозой регресса ad infinitum. Не просто наука, а науки: математика, химия, физика и т. д., и дальше, не просто математика, а вновь множество школ, направлений, ветвей, и не просто физика, а множество физик. Аналогичный распад, сопровождаемый враждой или отчуждением, присущ всем без исключения доминионам, и если сегодня уже стала обычной ситуация, в которой представитель «точных» наук обнаруживает поразительную глухоту к точности художественной фантазии (вспомним лагарповского геометра, откликнувшегося на «Ифигению» Расина недоумевающим «(Qu’est-ce que cela prouve?» — «Что это доказывает?»), то не будет ничего удивительного, если в недалеком будущем глухота эта достигнет такой рафинированности, что исчезнет всякая возможность понимания между представителями одной и той же науки.
Из сказанного следует, что культура нуждается не в узко научном определении, а в универсальном. Если мы не свернем линию анализа в спираль синтеза, если не соотнесем дифференциалы культуры с ее интегралом, то рискуем потерять и сами дифференциалы в миге профессионального овладения ими. Глядя на многое, видеть одно — без этого условия (платоновского συνοράν είς εν) и «многое» лишается смысла, вырождаясь в количество непроницаемых «специальностей», разобщенных во всем и исчерпывающе формализуемых в незабвенно басенной «парадигме» лебедя, щуки и рака.
Интеграл культуры — безотносительно к «щучьим велениям» и «рачьему ходу» сциентистских методологий и даже к «лебединым песням» философии существования — один и един: он — сама человечность, пронизывающая весь пленум культурных свершений, от жеста кисти Рафаэля и стука лютеровского молотка до мученической позы Бруно и геометрических кентавров мира Минковского. Культура — и таково ее определение in optima forma — человек, homo totus, взятый во всем потенциале осмысленных свершений; она — культ (точнее, культивация) человеческого бытия, мучительная и долгосрочная возгонка этого бытия от данности материала до ослепительной художественной формы. Творя культуру, человек творит себя — идет ли речь о линеарном контрапункте, аналитической геометрии, политической экономии или периодической таблице элементов, всюду речь идет о человеке, и весь этот «терпеливый лабиринт линий тщательно слагает черты его собственного лица» (Борхес). Здесь дан нам ключ к разгадке «страстной недели» культуры: все муки ее — Сократова чаша с ядом, избитый палкой Эпиктет, растерзанная толпой Гипатия, изгнанничество Данте, костры и отлучения, моления и проклятия, оплеванное лицо Мильтона, смирительная рубашка на гениальном ученом (Р. Мейере), «страхи и ужасы» Гоголя, туринский коллапс «антихриста» Ницше — все эти муки (сколько их?) означены высоким и очистительным смыслом последней цели, имя которой — «триумф чисто человеческого». Культура — не ставшее, а становление; как ставшее, она вполне умещается в тематических отвлеченностях очередного симпозиума или конференции; как становление она — сплошной мартиролог, нескончаемая экспозиция взлетов и падений, светлых восторгов и просветленных окаянств, поразительная коллекция черновиков от дюреровских портретов но гоголевских «харь» в поисках окончательного беловика: лика человеческого, транспарирующего выблесками «умного сердца».
Поиск этого лика — скрытая пружина культурного творчества, действующая и финальная причина всех без исключений созданий человеческого гения. И в нем же дан единственный залог интеграла культуры, где «плюралия» культурных форм выступает не как атомистически-разрозненное множество, а как цельный и фигурный комплекс, части которого при всей их автономности и автократности не склеротизируются в узкие и самодовольно замкнутые «специальности», но ритмически изживают свои функции «вольных стрелков» в едином дыхании сопричастности. Если допустимо сравнение культуры с оркестром, то вышесказанное упирается в проблему дирижирования оркестром. Ведь для того, чтобы оркестр играл, а не шумел, множественность его должна с необходимостью преломляться в фокусе дирижерской воли, вперенной в творимую партитуру всех симфонических вариаций на тему «Культура». Кто же этот Дирижер сознания и культуры? Он есть Целое и он есть Ритм, специфически оформляемый каждым элементом многообразия. И когда мы зрим оформленный ряд, скажем, естествознание, музыку, математику, живопись, архитектуру и т. д. — взору нашему явлены не замкнутые специальности, живущие по недостойному принципу «хаты с краю», но специальные модификации Целого, изживающегося в них ритмически и эвритмически. И только катаракта отвлеченной рассудочности помешает нам увидеть, что в неогеометрии Римана и Лобачевского, в периодической системе элементов Менделеева и Лотара Мейера, в додекафонной технике Шенберга, в романе «потока сознания», в символике поэзии Рильке и мира атомных интроспекции многоязычно глаголет и многолико ликует всечеловеческий контрапункт, процветающий всеми «специями» цветов — от «Цветочков» Франциска до «Цветов зла» Бодлера и — будем надеяться! — к «Голубому цветку» Новалиса. В свете этого и встает перед нами по-новому проблема Дирижера, и наново срывается с уст вопрос: кто же он?
Он — … открытая растерянность вопроса, настигнутого звучащей тишиной ответа. «Когда он подошел к шалашу, учитель встретил его каким-то странным взглядом, и были в этом взгляде и вопрос, и сочувствие, и веселое понимание: это был взгляд, каким юноша встречает подростка после того, как тот пережил трудное и вместе с тем немного постыдное приключение, какое-нибудь испытание мужества». [107] На память приходит глубокая притча Кафки «Перед законом». Некто, достигший врат замка, наткнулся на стража и, испугавшись грозного вида его, безропотно уселся рядом и провел в ожидании жизнь. Перед смертью он все-таки решился спросить стража, для кого предназначен вход. «Для тебя», ответил страж умирающему. Эта притча многосмысленна, и не место сейчас говорить о многих смыслах ее. Достаточно будет подчеркнуть лишь один — буквальный — смысл, чтобы получить точный и исчерпывающий ответ на поставленный выше вопрос. Здесь, в фокусе этого ответа, створяющего «физику» с «лирикой» и самое объективное с самым интимным, наука о культуре претерпевает сокрушительный поворот и преобразование: «системные исследования» стряхивают с себя бремя почтенных отвлеченностей и модулируют в моцартовскую тональность. Наука о культуре уподобляется „la gaya scienza” — «веселой науке» провансальских трубадуров.
Культура — всечеловек, понятый, однако, не иконично, а динамично. Ее протофеномен — не культурологическая схема, а универсальная личность, и одно звучание имени Гете насыщено большим пропедевтическим смыслом, чем иные увесистые монографии. В этом смысле может быть прочитано глубокомысленное изречение Новалиса: «Все люди суть вариации некоего совершенного индивида», [108] и если взять за основу этот принципиальный тезис; то отсюда вытекает, что культурный ценз или культурный уровень каждого человека определяется не суммой образованности или специальной компетентностью, а степенью приближения к означенному «индивиду». История демонстрирует нам поучительнейшие примеры воплощения целой культуры в одной личности, и нам следовало бы усматривать в этих примерах не гипнотизирующие подобия музейных экспонатов (бесценных и недосягаемых), а живые симптомы неограниченной раскачки человеческих возможностей. Они суть напоминания о человеческом первородстве и исконной цели всякой жизни; мы же, побуждаемые инерцией лени и забвения, охотно зачисляем их в ранг исключений. Исключений из чего? Из каких правил? «То были исключения», так защищаемся мы всякий раз, когда в наши разговоры о культуре встревают имена Платона, Леонардо, Гете, и так исключаем мы эти несносные имена из стройных культурологических построений. Наши комфортабельные фразокарциномы (выражение Альберта Стеффена) не терпят их исключительного присутствия, и оттого часто разыгрываем мы фарс поклонения там, где следовало бы культивировать понимание и силу гнозиса. «Исключения» — наша реакция на грань приближенности к «совершенному индивиду», но если так, то исключениями являются все люди, пусть не по реальным плодам, а по праву первородства, первично замысленной роли, по праву вариаций на тему «что есть человек». Что же он есть в смысле этого права? Три лейтмотива отчетливо пронизывают поставленный вопрос, три прозрачных протофеномена, от уяснения которых зависит фундаментальное осмысление проблемы «человек как творение и творец культуры». Эти лейтмотивы, слагающие в факте одновременного звучания всю невыносимую мелодику «исключительности», суть естественность, универсальность и невозможность.