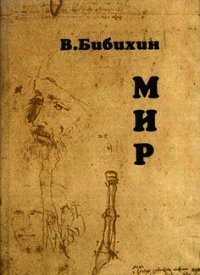Другое начало - Бибихин Владимир Вениаминович (книги онлайн без регистрации TXT) 📗
[…] структура символической системы мифа предполагает […] поглощенность смысла образом […] Но когда дело доходит до построения догматики, интерес к нагому смыслу настолько насущен, что последний необходимо должен выявиться, эксплицироваться в формуле. Все ужасы религиозной нетерпимости средневековья — естественная оборотная сторона этого голода по нагому и безусловному смыслу. Уже из того, что вплоть до возникновения философии греки довольствовались мифологией, т.е. не вылущенным из опредмечивающей оболочки смыслом, доказывает, что ничего похожего на духовные битвы раннего христианства архаическая Эллада не знала [113].
Попутно в этих энциклопедических примечаниях Аверинцев сообщает дату возникновения розария, его текст и практическое руководство к нему, рассказывает предысторию и суть догмата о непорочном зачатии. В сносках к Юнгу он между делом дает сведения по истории детства, недавно пригодившиеся, кстати, известному искусствоведу:
Архетипы рождения и новорожденного младенца играют не одинаковую роль в различные историко-культурные эпохи: они крайне характерны для мифологии и искусства средиземноморской архаики(например, для культур эгейского Крита или догреческой Малой Азии), но в эпоху классического эллинства почти совершенно исчезают, так что в аттическом искусстве боги-младенцы оборачиваются юношами, а впоследствии, в эпоху тотального кризиса античного мира, они вновь приобретают неимоверную популярность, достигающую своего апогея в раннем христианстве, на знамени которого было написано: «Если не будете, как дети, не войдете в царствие небесное». Затем в средневековом искусстве дети снова исчезают, чтобы появиться в искусстве Ренессанса и затем в кризисную эпоху буквально заполонить живопись и скульптуру в виде ангелов и амуров. Подобное же значение историко-культурного симптома имеет и феномен «инфантилизма» в современном искусстве [114].
В те же примечания Аверинцев вмещает краткий оригинальный трактат о гермафродите с экскурсом в христологию и с предвосхищением феминистских тем. Традиционный образ Христа, говорится здесь,
не есть уже образ «мужчины», но образ «человека» […] черты, которые были бы исключены из ригористически «мужественного» образа как «девические» и потому неуместные […] В искусстве Леонардо да Винчи Иоанн Креститель и Джоконда — это, собственно, один и тот же образ; не лицо того или иного пола, культивирующее в себе черты этого пола, но свободная человеческая личность, с полной ясностью и уравновешенностью противостоящая познаваемому ею миру [115].
Разброс аверинцевской эрудиции тревожил бы несобранностью, если бы не радость открытия культурных богатств, казалось бы, навеки убранных властью в запасники. Печально, что открытие это торжествовало в закрытом издании.
Пиама Гайденко с обстоятельной серьезностью объясняла в сносках к Веберу университетскую традицию Германии, связывая ее с протестантским характером религиозности в этой стране [116], и различия философских течений эпохи. Примечания к Хайдеггеру разрослись в том же сборнике шире его текста. Реферативная работа такого рода вполне могла бы развернуться в полноценную школу гуманитарного исследования.
Но противление ближайшего начальства было слишком плотно. Выпуск 3, последний в столь блестяще начатой серии, задержался на 4 года [117]. Редколлегия и исполнители остались прежними. Гальцевой теперь помогала энтузиастка дела, литературный редактор Валентина Листовская. Подбор текстов(Франсуа Мориак, Эжен Ионеско, Генрих Бёлль, Роберт Пенн Уоррен, Джон Гарднер), старательность исполнителей всех трех номеров серии оказались таковы, что с наступлением гласности все эти тексты без каких-либо изменений были переизданы тиражом 75 тысяч [118] и еще раз недавно в более полном виде хорошим современным тиражом [119]. Рената Гальцева внесла мелкую правку в свое предисловие двадцатилетней давности, полагаясь на продолжающуюся актуальность его звучания:
Самосознание современности […] эпохи, которая отмечена регистрацией «смертей», «закатов»,«сумерек» и «концов», — выражает определенный перелом в основных традициях западноевропейского мышления [120].
Легче проходили через начальственные инстанции материалы, послушно отвечавшие двум главным требованиям начальства: чтобы все сообщения были введены в идеологические рамки и чтобы ненужная гуманитарщина была высушена до деловитой информации. Конечно, хотелось бы получить, например, одну из книг Клода Леви-Строса в полноте. Приходилось однако довольствоваться «краткой антологией статей французского ученого», сожалея вместе с переводчиком-составителем о том, что она «естественно, не претендует дать сколько-нибудь исчерпывающее представление о творчестве Леви-Строса» [121].
Проходимости текстов через дирекцию помогали сакраментальные фразы, без которых имела мужество обойтись почти только одна Гальцева.
Советские ученые […], зарубежные марксисты […] в своих трудах раскрыли ошибочность исходных теоретико-методологических посылок леви-стросовской концепции ментальных структур, содержащей в себе антиисторическое идеалистическое допущение единообразной работы человеческого духа во все времена и у всех народов [122].
После столь сурового приговора, в другие времена имевшего бы уголовный смысл, референт ради успокоения начальства, которое могло решить, не дай Бог, что информировать о столь ошибочном авторе несмотря на его известность пожалуй все-таки нецелесообразно, брал на свою совесть не совсем точное сообщение о якобы пройденной и Леви-Стросом тоже марксистской школе:
Для характеристики взглядов и субъективной позиции Леви-Строса важно отметить, что он называет в числе своих учителей К. Маркса; резко критикует модернистские течения в современном искусстве, отдавая свои симпатии реалистическому, поднимает свой голос против геноцида, осуществляемого империализмом, против эксплуатации [123].
Читатель поневоле свыкался с такой и подобной специфической информацией и с россыпью многоточий в разорванном купюрами тексте. Возможно, однако, поступать следовало как раз наоборот: быть готовым довольствоваться пусть самым малой ложкой меда — языку много не надо, чтобы понять вкус, — но без дегтя. У конформиста на это, конечно, был готов ответный резон, что хороший мед не для всех. Общая загрязненность словесной среды служила элитному автору (служит и до сих пор) надежным оправданием своего права не делиться ни с кем чистотой источников, к которым он припал. В конце предисловия он формулировал свою цель:
Задача данного сборника […] в том, чтобы шире познакомить наших обществоведов с трудами крупного современного структуралиста и обеспечить тем самым возможность их глубокого критического осмысления, оценки с принципиальных марксистских позиций [124].
Сколько ни вкладывалось иронии в эту стандартную формулу, именно она оседала под конец в памяти. Навык обзора, охвата, огульной оценки с предвзятых позиций, вовсе не обязательно марксистских, насаждался и упрочивался, формируя интеллектуальный облик революционного десятилетия.