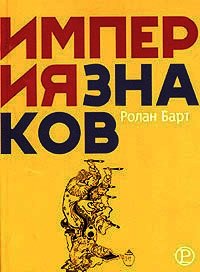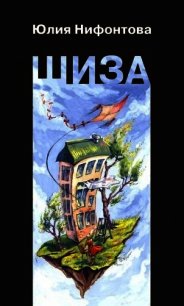Силы ужаса: эссе об отвращении - Кристева Юлия (читать книги онлайн без сокращений txt) 📗
Однако в этом завораживающем противостоянии войны без пощады двое оказываются с одной и той же стороны, объединённые в унижении; тогда речь оборачивается ядом, разговор — испражнением, это край ночи.
«Когда останавливаются, например, на способе формирования и проговаривания слов, то это не удерживает от убийственного произнесения фраз с пеной у рта. Это сложнее и тягостнее, чем наше механическое усилие испражнения разговора».
Неужели по логике этого знака равенства между высоким и низким, между тем же и другим никакого решения, никакого спасения? Несмотря ни на что, мир Селина периодически и как бы снисходительно насмехаясь, дает себе выход. Иногда это женщины, которые не испытывают отторжения, но, может быть, только воображают его. Иногда возникает другое решение — невозможное, осуждаемое, и не менее ветхое — которое состояло бы в верности Идее, единственной идее, гаранту и противовесу всеохватывающему отвращению. И наконец, тот путь, который Селин избирает для себя самого: придерживаться ужаса, но на самой короткой дистанции, бесконечно малой и огромной, которая, из самых глубин столь существенного для Селина унижения, выделяет и вписывает возвышенную любовь к ребенку, или стоящее над сексуальностью и аналогичное ей письмо-сублимацию.
На краю: женщины.
«Женщины по своей природе слуги. Но они, возможно, в большей степени воображают отторжение, чем его ощущают; это своего рода утешение, которое мне остается. Возможно, я предполагаю это в той степени, в какой я низок. Возможно, именно в этом мой талант».
Спасительное Единство: есть одна Идея, смехотворная и невозможная.
«Эти мои собственные идеи, они скорее кочевали в моей голове со всем этим пустым пространством между ними, это были как будто маленькие свечки, совсем не гордые и мерцающие, поскольку вынуждены дрожать всю жизнь посреди омерзительного и ужасающего мира. […] но, в конце концов, нельзя было предположить, что когда-нибудь мне, это мне-то, как Робинзону, удастся заполнить свою голову одной единственной идеей, но зато совершенно замечательной мыслью, гораздо более сильной, чем смерть…»
Возвышенное, наконец, с его двумя целомудренными лицами. С одной стороны:
«Альсид эволюционировал к возвышенному в своё удовольствие и даже, можно добавить, фамильярно, он тыкал ангелам, этот малый, и все для него было пустяк. Даже не догадываясь об этом, он заставил одну маленькую девочку, дальнюю родственницу, страдать долгие годы, погубил в этой монотонности ее бедную жизнь…».
С другой стороны: сублимация в музыке, которую многие пропускают и которую Селин будет рассматривать на протяжении всего своего письма:
«Он не мог ничего сублимировать, он хотел только уйти, унести своё тело отсюда. Он не был дешевым музыкантом. У него был баритон и ему надо было, словно медведю, всё разнести на своём пути, чтобы закончить».
«Печалиться — ещё не всё, надо бы суметь возобновить музыку, отправиться дальше на поиски печали».
Но наиболее нормальным решением, одновременно простым и общедоступным, передаваемым, разделяемым — это есть, будет рассказ. Рассказ как повествование боли: кричащие страх, неприятие, отвращение успокаиваются, сцепленные в историю.
Историю, правдоподобие, миф Селин ищет на колющем острие своей боли. Это знаменитая история его ранения в голову во время Первой Мировой, ранения, на серьёзности которого он настаивал как перед журналистами, так и в своих сочинениях, что, по мнению большинства биографов, сильно преувеличено Селином. Боли в голове, в ухе, в руке. Головокружения, шумы, гудения, рвоты. Кризисы, взрывы которых заставляют думать о наркотиках, об эпилепсии… Уже в «Смерти в кредит»:
«Первые звонки начались с войны. Безумие, оно преследовало меня…так, чем дальше, тем больше, в течение двадцати двух лет. Это коварно. Оно испробовало пятнадцать сотен шумов, огромный гам, но я пришел в исступление быстрее, чем оно, я опустил его, я сделал его на „финишной прямой“ […] Моя великая соперница — музыка, она застревает, она портится в глубине моего уха… Она не прекращает агонизировать… […] Орган Вселенной — это я… Я все предоставил, мясо, разум и дыхание… Частенько у меня истощённый вид. Идеи спотыкаются и волочатся по грязи. Мне неудобно с ними. Из беспорядка я делаю оперу. […] Я — начальник дьявольского вокзала. […] Дверь в ад в ухе — маленький атом пустоты».
Боль говорит здесь своё слово — «безумие» — но не задерживается на нём, так как магия письма, этого добавления к сказанному, уносит тело, тем более больное тело, по ту сторону смысла и меры. По ту сторону рассказа головокружение обретает свой язык: это музыка как дыхание слов, как ритм фраз, а не только как метафора воображаемой соперницы, где сливаются голос матери и смерти:
«Это красивый саван, расшитый историями, и его следует показать Богоматери».
Рассказ, напротив, всё время связан пуповиной с Богоматерью — соблазнительный и отвратительный объект повествования.
Впрочем, одна из самых отвратительных и унизительных в литературе сцен, разворачивающаяся на волнующемся море Ла Манша, запущена в ход именно матерью. Мы здесь далеки от жужжащей боли, воспетой музыкой. Вывернутое наизнанку тело, возвращённое из глубины внутренностей, кишки, вернувшиеся в рот, пища и рвота смешаны, обмороки, ужасы и злые воспоминания.
«Мама, сейчас она обрушится на поручни… Ее снова полностью вывернет… Ее вырвало морковью… куском сала… и целым хвостиком барабульки…».
«Мы захлебнулись в канализации! Мы удавились в сортире… Но они не перестают храпеть… Я даже сам не знаю, может, я умер».
Человечество, захваченное врасплох в его животности, барахтающееся в том, чем его вырвало, как бы для того, чтобы приблизиться к тому, что для Селина важно, важнее всяких «фантазий»: насилие, кровь, смерть. Никогда, возможно, даже у Босха или у самого мрачного Гойи, человеческая «природа», обратная сторона «осмысленного», «цивилизованного человеческого», «божественного», не была показана с такой беспощадностью, с такой малой долей снисходительности, иллюзии или надежды. Ужас перед адом без Бога: так как никакая инстанция спасения, никакой оптимизм, даже гуманистический, не проявится на горизонте, вердикт вынесен, и без возможного прощения — игривый вердикт письма.
«Лондонский мост» — не меньший разоблачитель этой войны с внутренностями, возведенными в этот раз на детородный уровень (генерал Дез Антрэй появляется уже в «Путешествии»), каким оказывается внутренняя боль:
«Это головокружение!.. Это недомогание!.. Я жертва лихорадки!.. Мне плевать!.. Я крепко зажмуриваю глаза… Я вижу, всё-таки… красное и белое… полковник Дез Антрэй!.. Стоит в стременах!.. Вот это спектакль воспоминания!.. Я снова на войне!., чёрт возьми!.. Я снова герой!.. И он тоже!.. Замечательное воспоминание!.. Я вдруг вытягиваюсь на софе… Я вызываю у себя приступ!.. Я снова вижу Дез Антрэй, моего любимого полковника!.. Он не был ненормальным, этот тип!.. Он стоял в стременах!.. ноги в руки… вверх тормашками!.. целился в солнце!». [160]
Боль, в конечном итоге шреберовская, которую только юмор и стиль вытаскивают из памяти фрейдовского невротика на самые жестокие страницы современной литературы.
Ничего победоносного в этой боли; это не ода: она ведет лишь к идиотии. Дебильность — та постоянно присутствующая у Селина область, где боль «интимного», одновременно физическая и психическая, связана с сексуальной распущенностью. Ничего порнографического, ничего притягивающего или возбуждающего в этом обнажении инстинктов. Секс, показанный на этом чёрном фоне, где желание тонет во влечении или аффекте, где репрезентации заволакиваются дымкой, значения исчезают, это опьянение, другое слово для обозначения дебильной боли.