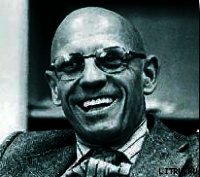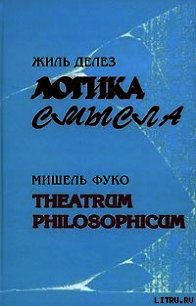Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 2 - Фуко Мишель
Но ведь в новом определении де ла Перьера, в его поисках определения правительства, по-моему, мы наблюдаем возникновение иного типа целесообразности. Управление определяется Ла Перьером как умение верно расставлять вещи, чтобы направлять их не к некоторой форме «общественного блага», как в текстах правоведов, но к «соответствующей цели» для каждой из тех вещей, какими как раз и необходимо управлять. Это предполагает, прежде всего, множественность конкретных целей; так, например, правительство должно поступать так, чтобы производилось по возможности наибольшее количество богатств, чтобы людям поставлялись достаточные и даже более чем достаточные средства к существованию; в конечном итоге, правительство должно сделать так, чтобы население смогло расти; следовательно, перед нами целый ряд конкретных целей, которые вскоре станут самой целью правительства. И для того чтобы достичь этих разнообразных целей, необходимо верно расставить вещи. Слово «расстановка» здесь важно. То, что, по существу, позволяло суверенитету достичь его цели, т. е. вызвать подчинение закону, есть сам закон; таким образом, закон и суверенитет сливались воедино. И напротив, в данном случае речь идет не о том, чтобы навязать закон людям, но о том, чтобы расставить вещи, иными словами, об использовании не столько законов, сколько тактик, или, в предельном случае, об использовании максимума законов в качестве тактик; необходимо действовать так, чтобы при использовании известного количества средств достичь той или иной цели.
Я полагаю, что здесь мы наблюдаем важный разрыв: если конечная цель суверенитета заключена в нем самом и если суверенитет извлекает из самого себя орудия управления в виде законов, то, в отличие от этой цели, конечная цель правительства заключена в управляемых им вещах; она состоит в поисках совершенствования, расширения и интенсификации направляемых правительством процессов, и инструменты правительства вместо того, чтобы быть законами, превращаются в разнообразные тактики. Как следствие, мы видим регрессию закона или, точнее, с точки зрения того, чем должно быть правительство, закон определенно не служит основным орудием. И здесь мы снова обнаруживаем тему, прошедшую через весь XVII в. и ставшую совершенно очевидной в XVIII в. в текстах экономистов и физиократов, где они объясняют, что если правительство и способно достичь необходимых ему целей, то уж, конечно, не с помощью закона.
Наконец, четвертая ремарка: Гийом де ла Перьер говорит, что тот, кто умеет достойно управлять, должен обладать «терпением, мудростью и прилежанием» 21. Что он понимает под «терпением»? Для объяснения слова «терпение» он берет в качестве примера того, кого называют «королем медоносных мух», т. е. шмеля, и говорит: «Шмель царствует над ульем, не прибегая к помощи жала» 22. Бог возжелал показать таким способом — «мистически», как говорит Ла Перьер, — что для исполнения своей власти истинный правитель не нуждается в жале, иными словами, в умерщвляющем орудии, в мече; он должен обладать скорее терпением, нежели гневливостью, и он также не вправе убивать, не вправе извлекать доход из собственной силы, являющейся сущностью личности правителя. В чем же состоит позитивный смысл «отсутствия жала»? В «мудрости и прилежании». «Мудрость» — в отличие от того, что было принято в традиции, — не есть «знание законов человеческих и божественных», иными словами, понимание правосудия и справедливости, но именно знание вещей и целей, каких возможно достичь, знание того, что надо делать, чтобы их достичь, «расстановка», которую необходимо использовать для достижения целей; именно такое знание и составляет мудрость суверена. Что же касается его «прилежания», то оно выражается в том, что суверен или, вернее, правящий, имеет право управлять лишь в той мере, в какой он размышляет и действует так, как если бы он состоял на службе у управляемых. В этом случае Ла Перьер опять-таки отсылает к примеру с отцом семейства: отец семейства — это тот, кто встает в доме раньше всех и ложится спать позже всех остальных, это тот, кто за всем бдит, поскольку считает себя находящимся на службе у собственного дома.
Подобная характеристика правительства сильно отличается от характеристики государя у Макиавелли. Безусловно, определение правления пока еще весьма расплывчато, несмотря на кое-какие новые аспекты. Я думаю, что этот первый небольшой набросок понятия и теории искусства управлять в XVI в. определенно не повис в воздухе; он был интересен не только теоретикам политики. Можно зафиксировать то, с чем он соотносился в реальности. С одной стороны, с XVI в. теория искусства управления оказалась связанной с развитием территориальных монархий (с появлением их аппаратов, с промежуточными правительственными инстанциями и т. д.); она была также связана с возникновением целой совокупности исследований и знаний, накапливавшихся с конца XVI в. и достигших наибольшего развития в XVII в., каковыми были, по преимуществу, науки о государстве в его различных проявлениях, измерениях в различных факторах, определяющих его мощь, — то, что как раз и называется «статистикой» 23, т. е. наукой о государстве. Наконец, в-третьих, поиски искусства управления не могут быть рассмотрены вне развития меркантилизма и кабинетных интриг.
Обозначая происходящее весьма схематически, можно сказать, что в конце XVI — начале XVII вв. искусство управления впервые кристаллизуется: оно сосредоточивается на теме государственных интересов, но не в том уничижительном и негативном смысле, который придается этому понятию сейчас (и означает нарушение правовых принципов, принципов справедливости и человечности единственно в интересах государства), но в позитивном и прямом смысле. Государство управляется по свойственным ему рациональным законам, которые не выводятся только из естественных и божественных законов, как и из одних лишь заповедей мудрости и благоразумия; государство, как и природа, обладает собственной рациональностью, даже если это рациональность особого типа. И в обратном порядке: искусство управлять не должно искать обоснований в трансцендентных законах, в космологической модели или в некоем философском или моральном идеале, оно должно вывести принципы своей рациональности из того, что составляет особую реальность государства. Таковы основополагающие моменты наипервейшей государственной рациональности, к которым я вернусь на ближайших лекциях. Однако можно сразу заметить, что подобное понимание государственных интересов будет сковывать развитие искусства управления вплоть до конца XVIII в.
На то, как я полагаю, имеется ряд причин. Прежде всего, причины исторические в строгом смысле слова, сдерживавшие развитие искусства управления. Это ряд великих кризисов XVII в.: сперва Тридцатилетняя война с ее опустошениями и разрушениями; затем, в середине века, крупные крестьянские и городские мятежи; и, наконец, в самом конце столетия, финансовый кризис, а также кризис продовольственный, сказавшийся на политике западных монархий конца XVII в. в целом. Искусство управления имело возможность расширяться, осмыслять самое себя, завоевывать и осваивать новые сферы только в периоды роста, иными словами, когда перед правительствами не стоят насущные военные, экономические и политические задачи, непрестанно беспокоившие их на протяжении всего XVII в. Таковы неподъемные и, если угодно, грубые исторические причины, тормозившие развитие искусства управления.
Я также полагаю, что искусство управления, каким оно было сформулировано в XVI в., в XVII в. оказывается скованным также из-за действия иных факторов, которые можно назвать, используя не слишком импонирующие мне понятия, «институциональными и ментальными структурами». Во всяком случае, можно сказать, что примат вопроса осуществления суверенитета, сразу и как теоретической проблемы, и как принципа политической организации, являлся основным фактором, блокировавшим развитие искусства управления. Пока суверенитет был центральной проблемой, пока институты суверенитета играли решающую роль, пока исполнение власти осмыслялось как осуществление суверенитета, искусство управления не могло развиваться самостоятельным и только ему присущим образом, и я думаю, мы находим тому наглядный пример в меркантилизме. Меркантилизм стал самым первым усилием, я бы сказал, первым достижением искусства управления на уровне и политической практики, и знаний о государстве. В этом смысле можно сказать, что меркантилизм — это первый уровень рациональности искусства управлять, несколько принципов (скорее моральных, нежели конкретных) которого отметил в своей книге Ла Перьер. Меркантилизм является первичной рационализацией исполнения власти как правительственной практики; это первая попытка создания науки о государстве, способной стать тактикой правительства; однако меркантилизм оказался скованным и остановленным, на мой взгляд, именно потому, что ставил основной целью мощь суверена: как поступать не столько для того, чтобы страна была богатой, сколько для того, чтобы суверен мог располагать богатствами, обладать сокровищами, формировать войско и с его помощью проводить свою политику? Цель меркантилизма — это мощь суверена, а инструменты, какими пользуется меркантилизм, — законы, постановления, установления, иными словами, традиционные орудия суверена. Цель — суверен, а орудия те же, что и у государственной власти. Меркантилизм попытался ввести возможности, предоставленные продуманным искусством управления внутрь блокирующей его институционально-ментальной структуры суверенитета. Таким образом, на протяжении XVII в. и вплоть до повсеместного исчезновения меркантилистской проблематики в начале XVIII в. искусство управления как бы топчется на месте, зажатое сразу с двух сторон. С одной стороны, слишком широкими, слишком абстрактными, но и слишком жесткими рамками суверенитета как проблемы и как института; была произведена попытка сочетать искусство управления с теорией суверенитета, т. е. вывести направляющие принципы искусства управления из пересмотренной теории суверенитета. Именно здесь в дело вмешались правоведы XVII в., сформулировав или реактуализировав теорию договора. Теория договора и станет теорией, где основополагающий договор, взаимные обязательства суверена и подданных станут чем-то вроде теоретической матрицы, на основе которой правоведы попытаются свести воедино общие принципы искусства управления. Однако если теория договора и осмысление отношений суверена с его подданными и сыграли весьма важную роль в теории общественного права — в действительности пример Гоббса это с очевидностью доказывает, хотя в конечном счете Гоббс стремился найти направляющие принципы искусства управления, — то все заканчивалось формулировкой общих принципов общественного права.