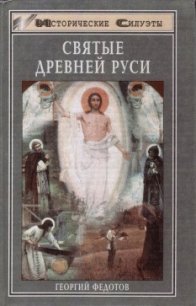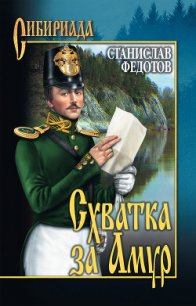Судьба и грехи России - Федотов Георгий Петрович (читать книги онлайн бесплатно полностью без сокращений TXT) 📗
В настоящей полупублицистической работе честолюбием автора было создать схему, совершенно не зависимую от дореволюционных публицистических направлений русской мысли. Эта задача может быть разрешена лишь приблизительно, но, по убеждению автора, лишь полная свобода от дореволюционных традиций обеспечивает жизненность всякой дореволюционной национальной конструкции.
Оценка недавнего прошлого для автора подчинена задаче искания нового национального сознания. По отношению к этой основной задаче пересмотр традиции является, выражаясь моральным языком, актом покаяния. Ничто так не вредит созидательной работе будущего, как закоренелость в старых грехах, выражающаяся в постоянных попытках идеализации России вчерашнего дня. Все это хилые потуги пересудов уже совершившегося Божия суда.
Если для русской молодежи в России основной задачей является введение в наследство бессмертной культуры старой России, восстановление надорванной связи поколений, то здесь, за рубежом, это же восстановление связи достижимо лишь путем отречения от тленного и мертвого в прошлой культуре.
Лишь совершивший эту суровую работу — прежде всего в самом себе — может надеяться войти небесполезным работником в трудовую мастерскую новой России.
==127
1. КОГДА ЗАШАТАЛАСЬ ИМПЕРИЯ?
Две силы держали и строили русскую Империю: одна пассивная —неисчерпаемая выносливость и верность родных масс, другая активная — военное мужество и государственное сознание дворянства. Теперь всякому ясно, до какой степени эти силы были чужды друг другу. Со времени европеизации высших слоев русского общества дворянство видело в народе дикаря, хотя бы и невинного как дикарь Руссо; народ смотрел на господ как на вероотступников и полунемцев. Было бы преувеличением говорить о взаимной ненависти, но можно говорить о презрении, рождающемся из непонимания. Отдельные примеры патриархальных отношений к крестьянам в иных помещичьих семьях, сохранивших православный быт, не опровергают основного факта. Он засвидетельствован Пушкиным для дней Екатерины, Толстым для Двенадцатого года и середины прошлого столетия. Единственной скрепой нации была идеяцаря — религиозная для одних, национальная для других. Нетрудно видеть, что дворянская империя и мужицкое царство — совершенно, разные идеи. Монархизм русского дворянства, наследственный, кровный, даже религиозно окрашенный, был очень близок к легитимизму французского дворянства или прусского юнкерства. В основе его лежала идея рыцарской верности государю-сеньору, верности данной присяге, своему, дворянскому слову. Эта личная, почти феодальная связь углублялась патриотическим сознанием, видевшим в государстве средоточие национальной жизни, воплощение отечества. Идея национального служения государю была привита нам с Петра. Идея дворянской, личной верности выковывалась в изменнических гвардейских переворотах XVIII века. В век Екатерины дворянское монархическое чувство сложилось окончательно и в существенных чертах своих жило до революции. Двopянcтвo нaшe мoгло обожать государя ,но не позволяло унижать себя. Оно уже не могло кланяться царю в ноги, как его предки в старой Москве, или лезть под стол в местнических спорах. Оно восприняло западные начала личной чести и личной верности, хотя и в сословно-корпоративных формах.
Народ относился к царю религиозно. Царь не был для него живой личностью или полити-ческой идеей. Он был помазанником Божиим, земным Богом, носителем божественной силы и правды. По отношению к нему не могло быть и речи о каком-либо своем праве или свей чести. Перед царем, как перед Богом, нет унижения. Пытаясь свести царя
==128
на землю, очеловечить его в своем воображении, народ пользовался образом сказки. Царь Берендей, царь Додон приобретал то бармы и венец московского государя XVII века, то ленту через плечо и аксельбанты. Что касается государственного смысла Империи, то он едва ли доходил до народного сознания. Poccия с Петра перестала быть понятной русскому народу. Он не представлял себе ни ее границ, ни ее задач, ни ее внешних врагов, которые были ясны и конкретны для него в Московском царстве. Выветривание государственного сознания продолжалось беспрерывно в народных массах за два века Империи. Россия такова, какой хочет ее царь. Это было подчинение по доверию, а не по убеждению, что не мешало ему быть безусловным и неограниченным. «Поляк ли бунтует» или «наш батюшка велел взять дань с китайцев чаем», народ готов лить свою кровь, не считая, не спрашивая объяснений. Но он льет ее «за веру и царя». Отечество здесь на последнем месте. Для дворянства оно на первом. У него и народа в обиходе даже разные имена для верховного носителя власти. Одни называют его государем, другие — царем. «Государь» — «prince», «seigneur». Это старое московское слово переводимо на иностранные языки. «Царь» — непереводимо, ибо мистически связано с русской религиозной идеей.
Соединение мужицкого царя с дворянским государем создавало из петербургской императорской власти абсолютизм, небывалый в истории. Неограниченный государь Западной Европы на самом деле был ограничен личными и корпоративными правами, еще более — правовым чувством аристократии. Mосковский царь(как все деспоты Востока) был ограничен религиозными верованиями и бытовым укладом нapoднoй жизни.Петербургские самодержанцы могли, опираясь на народ, подавлять дворянство и, опираясь на дворянство, разрушать быт, оскорблять нравственное чувство народа. Религиозная концепция власти, в связи с невидимостью, нереальностью для народа ее носителей, сообщала им полную неуязвимость. Вся ненависть за поругание национальной правды направлялась на господ, на министров, останавливаясь у порога даже Екатерининского дворца.
Если на практике императорская власть обнаруживала большую мягкость сравнительно со своими юридическими возможностями, то это потому, что, по своему воспитанию и культуре,государь был первым дворянином Империи и должен был разделять европейские понятия о приличиях и благовоспитанности, свойственные своему классу. Однако значение народной почвы самодержавия сказывалось всякий раз, когда дворянство пыталось, или только мечтало, перевести свои бытовые и гражданские
==129
привилегии на язык политический. Против дворянского конституционализма царь всегда мог апеллировать к народу. Народ, по первому слову, готов был растерзать царских недругов, в которых видел и своих вековых насильников. В этой обcтaнoвкe, при двойственности самой природы императорской власти, становится понятной ее органическая неспособность к самоограничению. Конституция в России была величайшей утопией.
В оболочке петербургской Империи Московское царство было, выражаясь термином Шпенглера, «псевдоморфозной». Раскрытие ее приводило само по себе к крушению построенного на ней здания государственности. Другими словами, русская государственность могла - следовательно, должна была — погибнуть от просвещения.
В просвещении был весь смысл Империи как новой формы власти. Рождение Империи в муках петровской революции предопределило ее идею властного и насильственного насаждения западной культуры на Руси. Без опаснойпрививки чужой культуры, и при этом в героических дозах, старая московская государственность стояла перед неизбежной гибелью. Речь шла прежде всего о технике и формах народного хозяйства. Но разве мыслима техника без науки,а новые формы хозяйства без новых хозяйствующих классов? Восемнадцатый век шел без раздумья и колебаний по европейской дорожке. (Только с новыми хозяйствующими классами дело обстояло слабо.) Социальная пугачевщина, с одной стороны, и политический либерализм Новикова и Радищева, с другой, отмечают конец просвещенного абсолютизма в России. Отныне и до конца Империя, за исключением немногих лет, стоит на противоестественной для нее — но не удивительной для последних поколений — позиции охранения. То, что охраняется,- не вековые основы народной жизни, а известный этап их разрушения. В консервативный догмат возводится выдохшийся, мумифицированный остов петровской революции. В этом вечная слабость русского консерватизма — его подлинная беспочвенность. Консерватизм прекрасно понимал лишь одно: опасность просвещения для крепости Империи. Трудно даже сказать, какое просвещение было опаснее: православно-национальное славянофилов или космополитическое и безбожное западников. И то и другое разоблачало основную ложь, поддерживающую всю систему, — ложь, которую можно было бы наглядно выразить так: московский православный царь в мундире гвардейского офицера или петербургский гвардейский офицер, мечтающий быть московским царем.