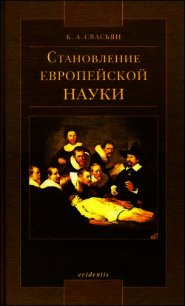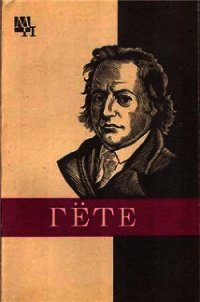ФИЛОСОФИЯ СИМВОЛИЧЕСКИХ ФОРМ Э. КАССИРЕРА - Свасьян Карен Араевич (читать книги полностью без сокращений бесплатно .TXT) 📗
КРИТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Философия символических форм», задуманная Кассирером как своеобразная «морфология» духа, исследующая формальные условия понимания мира, остается едва ли не самой значительной попыткой строго логического осмысления культуры в западной философии XX века. Конец исследования подтверждает эту оценку, данную в самом начале работы; уже с чисто формальной точки зрения строгость и логическая добросовестность «Философии символических форм» выразительно выделяют ее на фоне позитивистических и иррационалистических крайностей, разъедающих философскую мысль с разных концов и сходящихся в «провиденциальном» факторе скудоумия. Читатель, достаточно уважающий философию, чтобы не предпочитать логике всяческие чревовещательные инстинкты, может опытно проверить контраст ситуации, перейдя к текстам Кассирера от текстов, скажем, Ортеги-и-Гассета; по крайней мере, нормальная философская атмосфера будет ему вознаграждением после утомительно непочтительных к чужому слуху поминаний «рока», инспирированных печальной памяти гетевским Проктофантасмистом (из романтической «Вальпургиевой ночи»). Но таков, повторяем, чисто формальный аспект ситуации; вкратце отметив его, мы должны перейти к содержательному анализу.
«Философия символических форм» разделила участь многих современных ей направлений западной мысли: колебаться между формализмом и диалектикой, между Кантом и Гегелем, между гносеологией, не допускающей онтологии, и онтологией, не базированной на гносеологии. Кассирер — строгий трансценденталист — испытал на себе все последствия этой неустойчивости. «Годы учения», кропотливые штудии великих диалектических систем прошлого не могли не сказаться явным расколом в эволюции его мысли; не исповедуя диалектики открыто и безоговорочно, он тем не менее не мог открыто же отречься от нее. Но синтез трансцендентализма (в кантовском смысле) и диалектики оказался невозможным; Кант, предвидивший подобные попытки, дал в свое время красочную картину мытарствований познания по рискованным стезям мира идей в «трансцендентальной диалектике». Мы знаем уже, что подобный синтез полагается Кассирером в основу всей системы: это — провозглашение автономности и изолированности каждой символической формы и антиномическое утверждение сквозного развития всех форм. Следует отметить: оба термина антиномии сами по себе логически безупречны. Автономность формы, не допускающая никакой редукции, плодотворно сказалась в ходе фактического исследования; в этом отношении кассиреровский анализ, скажем, языка, понятого как независимая духовная форма, подчиняющаяся собственным — и никаким другим — законам, имеет явное преимущество перед многими концепциями современности: теорией Кроче, например, сводящей проблему языка к общей функции эстетического выражения, или философской системой Германа Когена, автономно расчленяющей логику, этику, эстетику и религиозную философию и исследующей основные проблемы языкознания лишь в степени их связи с эстетическими вопросами. С другой стороны, преимущественна и сама идея развития, историчности форм; штудии гегелевской «Феноменологии» вознаградили автора «Философии символических форм» даром конкретности. Но как возможен синтез? Или иначе: как возможно развитие форм в факте их строжайшей автономии? Самый переход из одной формы в другую обусловлен, по Кассиреру, латентным наличием последующей в предыдущей; форма, скажем созерцания лишь потому может развиться в форму чистого понятия, что «движущей причиной» ее является функция самого понятия. Но если так, то не нарушается ли тем самым принцип строжайшей автономности? Ибо о какой же автономности может идти речь, если формы изначально и органически «присутствуют» друг в друге? Кассирер на десятках страниц подчеркивает указателъностъ символа; это значит, что символ жив другим и для другого; принцип автономии замыкает его в структуралистскую процедуру «закрытого чтения»; здесь он жив собой и для себя. Принцип развития, напротив, выталкивает его из этой самодостаточности; выталкивает силою другого, диалектически соплетенного с ним. О чем же, как не об этом, гласят хотя бы превосходные страницы Кассирера о построении сознания? Сознание интегративно; каждый элемент его проникнут всей полнотой отношений и связей. [82] Вспомним: именно это дает возможность Кассиреру ответить на вопрос Канта об «одном» и «другом». Одно всегда берется через другое, а другое через одно; иначе они невозможны. Но если такова вся система символических форм, то не автономность присуща каждой форме, а причастность, со-причастность — сквозная ответственность. Другой вопрос: возможна ли автономность в самой этой взаимопронизанности? Мы ответим: возможна, но иная, чем у Кассирера, и иначе, чем у Кассирера (об этом в следующей главе). С другой стороны, трещину в фундаменте «Философии символических форм» дает сочетание понятий непрерывности и формы. Мы говорили уже в связи с анализом логики Когена о неправомерной универсализации принципа непрерывности на фоне новейших математических достижений, перефасонивших все здание математики, покоящееся на фундаменте аналитических функций. Это возражение сохраняет силу и в отношении Кассирера. Непонятно, впрочем, другое. Непонятна сама совместимость непрерывности и формы. Если, скажем, понимать число как сумму единиц и образовывать его через непрерывность перехода, то очевидно, что сама бесконечность этого процесса препятствует пониманию числа как формы. Форма индивидуальна: она — целостность, единство, связь, структура, гештальт. Таково понятие числа у Кантора; не непрерывное накопление единиц («порядок в последовательности»), а универсалия, во-первых, от последовательности элементов и, во-вторых, от порядка их, и выступающая как мощность множества. Одно из двух: либо непрерывность без формы, либо форма без непрерывности. Отсылаем читателя по этому вопросу к прекрасной статье П. А. Флоренского «Пифагоровы числа»; здесь же процитируем лишь один отрывок: «Если явление изменяется непрерывно, — пишет П. А. Флоренский, — то это значит — у него нет внутренней меры, схемы его, как целого, в силу соотношения и взаимной связи его частей и элементов полагающей границы его изменениям. Иначе говоря, непрерывность изменений имеет предпосылкою отсутствие формы: такое явление, не будучи стягиваемо в единую сущность изнутри, не выделено из окружающей среды, а потому и способно неопределенно, без меры, растекаться в этой среде и принимать всевозможные промежуточные значения». [83] Несомненно, что сама возможность формы обусловлена у Кассирера логически не выявленным принципом прерывности; в переходе форм должен быть перерыв, ограничивающий и отграничивающий их; в противном случае не может быть и речи не то что об автономности, но и о простой их различимости. «Прерывность» — скрытая власть в «Философии символических форм»; логическое осознание ее должно бы было ниспровергнуть идола «непрерывности», официально провозглашенного гегемоном системы. Скрытая власть — диалектическая власть, или единство непрерывного становления и прерывных скачков.
Обратимся теперь к самому понятию символа. От факта культуры Кассирер умозаключает к символическим формам и от последних — к единству символической функции сознания. Трехчленное это заключение провоцирует три вопроса; вопросителен и проблематичен каждый член его. Что значит факт культуры в критическом смысле слова? Кассирер постулирует его первоначальность: он есть: Критико-познавательная некорректность этого утверждения вынуждает зачислить его в класс догматических суждений. Как критик познания, я не имею логического права исходить из факта культуры; факт культуры — данность, догматически предпосылаемая мною познанию, и если Кассирер надеется спасти положение, квалифицируя эту данность как данность проблемы, он не замечает (по крайней мере, ничего не говорит об этом), что проблематичностью наделяется здесь возможность культуры, т. е. второй шаг познавательного акта, тогда как первый шаг попросту обойден в догматическом утверждении факта (он есть). Что же именно есть? Предположим: есть нечто; откуда, спрашивается, берет Кассирер, что это нечто есть культура? К культуре надо еще прийти; культура — цель исследования. Если я исхожу из культуры, я, стало быть, заведомо знаю то, что мне предстоит еще узнать, и доказываю нечто с помощью доказываемого нечто. Налицо — petitio principii, предвосхищение основания. Ситуация воспроизводит ход мыслей «Критики чистого разума», именно: исходную предпосылку ее, что существует фактически всеобщее и необходимое знание. Можно критически спросить Канта: откуда ему это известно? Возможность ответа, как известно, у Канта двоякая: либо опыт, либо априорная идея: третьего не дано. Но, если опыт, то, оставляя в стороне массу прочих недоразумений, позволительно спросить: как же всеобщность и необходимость могут быть опытом? Если же априорная идея, то чем же тогда отличается кантовский «критицизм» от «догматизма», скажем, Спинозы? Не все ли равно, какая внеопытная догма лежит в начале познания: «субстанция» или «всеобщее и необходимое знание»? Кассирер, как и Кант, перепрыгивает через начало; священное требование теории познания не предпосылать познанию ничего невыверенного познанием здесь нарушено. Результат ложится в основу; то, что должно было быть выводом, становится вводом. Понятие культуры догматически предваряет исследование культуры.