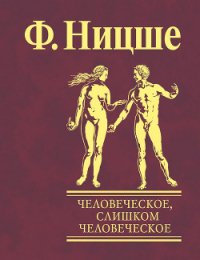Внутренний опыт - Батай Жорж (книги онлайн TXT) 📗
Итак, “время в чистом состоянии”, а на следующей странице “избавившийся от порядка времени человек”. Обманчивость памяти доходит до того, что непостижимая неизвестность времени — которую она полностью признает — сливается со своей противоположностью, с познанием, дающим нам порой ту иллюзию, что мы избавляем себя от времени, получаем доступ к вечности. Память тоже связана с проектирующей способностью, с разумом, который не может без нее обойтись, но воспоминание, вызванное каким-то шумом, прикосновением, относится к чистой памяти, свободной от всякого проекта. Эта чистая память, в которую вписано наше “истинное я”, самость, противостоящая я проекта, не высвобождает никакой “постоянной и обыкновенно сокрытой сути вещей”, разве что сообщение, состояние, в которое нас бросает, когда, избавившись от знания, мы не ухватываем в вещах ничего, кроме притаившейся в них по обыкновению неизвестности.
Известное — избавившийся от гнета времени идеал — столь мало соотносится с мгновениями блаженства, что на счет одной фразы из “Септета” Вентейля (расположенной рядом с другой, о которой говорится: “Этот вопрос представлялся мне крайне важным, ибо ничто не могло лучше характеризовать и как бы отделить от оставшихся мне дней вместе со всем видимым миром те впечатления, какие через большие промежутки времени служили мне чем-то вроде вех, приманок для истинной жизни: например, впечатления от колоколен Мартенвиля, от вытянувшихся в ряд деревьев около Баальбека”) он отпускает такое замечание: “Затем фразы удалились, кроме одной, несколько раз промелькнувшей так быстро, что я не успел разглядеть ее лик, но она была такая ласковая, такая непохожая… ни на одну женщину, от которой я ничего подобного не мог ожидать, между тем как эта фраза своим нежным голосом сулила мне счастье, за которое действительно стоило побороться; быть может, это невидимое создание — хотя я и не знал его языка, зато понимал его отлично — и являлось той единственной Неведомой, которую мне суждено было встретить” (“Пленница”, 225). В глазах Пруста, он повторяет это раз двадцать, в женщине желаннее всего доля неизвестности (дай ему волю, он, чтобы насладиться неизвестностью, извлек бы ее из женщины как “квадратный корень”). Но знание все время убивало желание, разрушало неизвестность (которая “часто не могла устоять перед обычным знакомством”). Зато в области “впечатлений” знание не могло чего-то умалить, что-то развеять. Эта область влекла своей неизвестностью, неизвестность влечет и в желанных существах. Фраза из “Септета”, лучи летнего солнца прячут от жадных глаз знания некую тайну, которую ни одно воспоминание не сможет никогда приоткрыть.
В соотнесенном с памятью “впечатлении” остается, как и в поэтическом образе, одна двусмысленность, связанная с возможностью схватывать мыслью то, что по сути своей всегда ускользает. В споре, что ведут между собой воля брать и воля терять —желание оставить за собой и противоположное ему желание сообщать — поэзия занимает туже ступень, что и мистические “утешения”, видения, речи. “Утешения” передают стихию неизвестности (невозможности) в доступных в общем формах. Тут владычествует наслаждающаяся божественностью благочестивая душа, которой есть что сказать и в крике, и в изнеможении; она не достигает глубины, темной пустоты. Образы самой что ни на есть внутренней поэзии — и самой гибельной — “впечатления”, говоря о которых, как только Пруст не рассыпался — “было так хорошо, что я замер в экстазе на неровной мостовой” или: “если бы настоящее не было столь победоносным, я бы точно потерял сознание” или “они… вынуждают… волю трепетать… в дурмане какой-то недостоверности, подобной тем ощущениям, которые можно испытать от необъяснимых видений в первые мгновения сна…” — поэтические образы, или “впечатления” все равно сохраняют, даже и тогда, когда вырываются за его пределы, некое чувство собственника, постоянство сообразующего всё с собою я.
Доля недоступности, которая кроется во “впечатлениях” и которая их предвкушает в каком-то неутолимом голоде, сквозит сильнее в романе “Под сенью девушек в цвету”, нежели в комментариях “Обретенного времени”:
“Мы начали спускаться по дороге в Юдемениль; неожиданно на меня нахлынуло глубокое счастье, — таким счастливым я не часто бывал после отъезда из Комбре, — оно напоминало то, что я переживал, например, глядя на мартенвильские колокольни. Но теперь счастье было неполное. Я заметил невдалеке от ухабистой дороги, по которой мы ехали, три дерева, когда-то, должно быть, стоявшие в начале тенистой аллеи, — складывавшийся из них рисунок я уже где-то видел; я не мог вспомнить, из, какого края были точно выхвачены деревья, но чувствовал, что край этот мне знаком; таким образом, мое сознание застряло между давно прошедшим годом и вот этой минутой, окрестности Баальбека дрогнули, и я задал себе вопрос: уж не греза ли вся наша сегодняшняя прогулка, не переносился ли я в Баальбек только воображением, не является ли маркиза де Вильпаризи героиней романа и не возвращают ли нас к действительности только вот эти три старых дерева, как возвращаешься к действительности, оторвавшись от книги, описывающей совсем иные места так ярко, что в конце концов нам кажется будто мы действительно там поселились?
Я смотрел на них, я видел их ясно, но мой разум сознавал, что за ними скрывается нечто ему неподвластное, что они вроде находящихся от нас слишком далеко предметов: как ни стараемся мы до них дотянуться, а все же в лучшем случае нам удается на мгновенье коснуться их оболочки. Мы делаем передышку только для того, чтобы размахнуться и еще дальше вытянуть руку. Но для того, чтобы мой разум мог собраться с силами, взять разбег, мне надо было остаться один на один с самим собой. Мне хотелось свернуть с дороги, как на прогулках по направлению к Германту, когда я обособлялся от родных. Мне даже казалось, что я должен свернуть. Я знал это особое наслаждение, которое, правда, требует работы мысли, но по сравнению с которым приятность безделья, склоняющая вас лишить себя наслаждения, представляется нестоящей. Это наслаждение, источник которого я пока еще только предчувствовал, который мне предстояло создать самому, я испытывал редко, но всякий раз мне казалось, что события, происшедшие в промежутке, незначительны и что если я ухвачусь за эту единственную реальность, то для меня наконец-то начнется настоящая жизнь. Я приставил руку щитком к глазам, чтобы закрыть их незаметно для маркизы де Вильпаризи. Я ни о чем не думал, затем, вновь собрав мысли и крепче держа их, я еще дальше рванулся по дороге к деревьям или, вернее, по внутренней дороге, на краю которой я видел их в себе самом. Я снова почувствовал за ними тот же самый предмет, знакомый, хотя и не явственно различимый, но добраться до него так и не добрался. Деревья между тем все приближались. Где же я их видел? Вокруг Комбре ни одна аллея так не начиналась. Еще меньше напоминало мне этот вид то местечко в Германии, куда мы с бабушкой ездили как-то на воды. Уж не явились ли деревья из далеких лет моего детства, таких далеких, что время успело разрушить все окружавшее их, и, подобно страницам, которые вдруг с волнением находишь в как будто не читанной книге, они одни выплыли из забытой книги моего раннего детства? А быть может, они составляли часть одного из пейзажей снов, пейзажей всегда одинаковых, во всяком случае для меня, потому что их необычность являлась лишь объективацией во сне того усилия, какое я делал, пока еще бодрствовал, — делал, пытаясь постичь тайну местности, которую я угадывал за ее внешним видом, что так часто со мною случалось, когда я шел по направлению к Германту, или пытаясь внести тайну в местность, которую мне хотелось узнать и которая с того дня, когда я ее узнавал, теряла для меня всякий интерес, как, например, Баальбек? Быть может, они представляли собой совершенно новый образ, оторвавшийся от сна, который я видел минувшей ночью, и уже расплывшийся, так что казалось, будто он явился издалека? А быть может, я никогда их не видел, быть может, они содержали в себе, как иные деревья и травы, которые я видел около Германта, смысл не менее темный и столь же трудно уловимый, какой содержит в себе далекое прошлое, и когда они заставляли меня погружаться в свои мысли, мне казалось, будто передо мной воскресает воспоминание? А что, если они никаких мыслей в себе не таили и двоились во времени, как иногда двоятся предметы в пространстве, только потому, что у меня устали глаза? Я не мог себе это объяснить. Между тем они шли мне навстречу — некое мифическое видение, хоровод ведьм или норн, собиравшихся прорицать. Я склонен был предполагать, что это призраки прошлого, милые друзья детства, исчезнувшие приятели, с которыми меня связывают воспоминания. Подобно привидениям, они словно молили меня взять их с собой, оживить. В их наивной, повышенной жестикуляции читалась бессильная мука любимого существа, утратившего дар речи, сознающего, что мы не догадаемся, что оно хочет, да не может сказать нам. Но вот мы уже проехали развилку дорог, и деревья остались позади. Коляска уносила меня прочь от того, что в моих глазах было единственно подлинным, что могло бы меня действительно осчастливить, она напоминала мне мою жизнь.