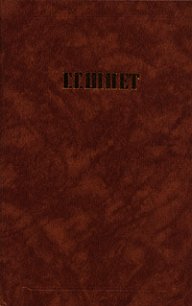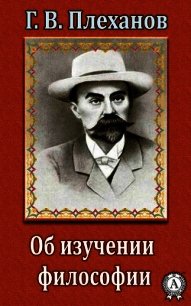Сочинения - Шпет Густав Густавович (книги бесплатно без TXT) 📗
Революция наша есть не только каузальное следствие и результат, но также осуществление замысла. Этот замысел выносила, лелеяла, себя сама на нем воспитывала наша интеллигенция девятнадцатого века. Революция осуществляется не во всем так, как, может быть, мечталось и хотелось этой интеллигенции, но что же это означает: недействительность революции или недействительность интеллигентского идеала и, следовательно, самой интеллигенции, насколько она жила этим идеалом? Я склонен думать последнее. Оттого отход и отказ значительной части интеллигенции от революции есть закат и гибель
Очерк развития русской философии
этой интеллигенции. Другая часть той же интеллигенции, в революцию воплотившаяся, также перестала быть интеллигенцией, но по основаниям другим: из «интеллигенции» она превратилась в «акцию» и в «агент<а>». Интеллигенции, таким образом, нет, а революция есть. Я могу игнорировать мнения, традицию, но не могу, как объективную действительность, игнорировать революцию, раз заходит речь о философско-культурном контексте развития идей наших.
Как революция сама по себе есть антитезис, преддверие синтеза, так закат, о котором я говорю, есть завет нового восхода. Это — уже дело субъективной веры и желания предвидеть в этом восходе не восстановление, не рс ставрацию, а Возрождение как реальное новое бытие в строгом смысле исторической категории Ренессанса. Нет в реальности прежней интеллигенции нашей, но становится теперь новая, нет старой России, но возникает новая! Отдельные представители прежней интеллигенции могут, переродившись, войти в новую, но не они определят ее реальность, они должны будут только принять последнюю. Преждевременно говорить о том, какова будет идеология новой интеллигенции, существенно, что она не будет прежнею, существенно, что она будет принципиально новою. Иначе — не было бы ничего более неудачного, чем наша революция.
Я бы обнаружил ту самую импульсивность, о которой упоминал выше, если бы, говоря и думая о революции, имел в виду ее политическую и социальную стороны. Пусть именно эти стороны в нашем быту ощущаются сильнее и больнее всего, но в свете философско-культурном это — только смена форм и перемена лиц. Другое дело революция в порядке идейном, культурном, духовном, революция «сознания». Это уже не одни формы и лица, это — действительно новые меха, действительно новое вино, действительно новые «личности», с душами, наизнанку вывороченными. Все мироощущение, жизнепонимание, вся «идеология» должны быть принципиально новыми.
Насколько все это верно, настолько ясно, что революция— итог, который также может быть критерием и завершением, в свете которого вполне допустимо рассмотрение любого, в том числе и идейного, материала нашей истории. В философско-культурной перспективе, которая таким образом раскрывается, располагается контекст,
о котором я говорил, и методологически это есть не сужение горизонта, а только его определение.
Действительное затруднение, которое тут возникало передо мною, возникало скорее всего из того, что сама революция еще не кончилась, и мой «итог» может оказаться шатким, ибо известно, сколько уже высказано ложных оценок и сколько создано преждевременных выводов из-за того, что новый этап принимался за конец и иллюзорные ожидания за действительный расчет. На это я мог бы сказать то, что подвожу итог отнюдь не революции, а предреволюции. Конечно, в самой революции есть факты и события, которые могут повлиять и на отношение к прежнему. Эти события еще не все изжиты, и невозможно даже предвидеть, в каком нечаянном образе они еще предстанут. Так, в порядке духовной идеологии не может не вызвать переоценок, поскольку процесс рассматривается именно в свете конца, недавний факт образования «живой церкви». А кто мог бы его учесть всего несколько месяцев тому назад? Сколько прежних, не вовсе отмерших учений и теорий выглядят теперь в новом свете! Для них этот «факт» едва ли не самое крупное событие революции. Я тоже думаю, что это событие может иметь крупное значение, настолько крупное, что его следовало бы стараться понять и обнять в еще более широком захвате, чем русская только культура. Это — факт, который не может не иметь значения для всей угасшей и истлевающей христианской культуры. Но именно эта необходимость еще большего расширения кругозора заставляла меня быть более осторожным и не заглядывать так далеко. Здесь я останавливался точно так же, как перед прогнозами идеологии будущей интеллигенции. И опять возможные прегрешения — мои личные прегрешения, а не дефекты метода. Они так же легко могут быть корригированы читателем, как и мною, если бы мне понадобилось вернуться к этой работе с целью исправления ее.
В целом, если моя вера в русский Ренессанс, в новую, здоровую народную интеллигенцию, в новую, если угодно, аристократию, аристократию таланта, имеет основание и если этот Ренессанс принесет с собою и новую философию в той стадии развития, которую я считаю высшею, то наша революция в философско-культурном аспекте «сознания» должна побуждать к настроениям оптимисти
Очерк развития русской философии
ческим. И такой оптимизм, в моих глазах, есть здоровый оптимизм.
Разногласий во взглядах, мнениях и оценках обнаружится у моих читателей и критиков со мною, разумеется, много, но также разумеется, что это меня уже менее беспокоит. Поэтому здесь общие объяснения и оправдания мне хотелось бы кончить. Каковы бы ни были качества моей работы, хотя бы частично она оправдывается количеством захваченного мною материала. Все-таки в этом отношении моя работа остается первою. Лишь после нее мне ли или кому другому можно будет пускаться в более скрытые глубины и «контекста», и самого философского русского слова.
Что касается специально самой работы как процесса, то, признаюсь, часто с досадою и раздражением останавливался я перед тем, что считал первоначально надежным пособием и руководством. Досадно было, что приходилось терять время на розыски и исследования, которые давным-давно должны были бы быть произведены, если бы мы серьезнее и культурнее относились к своему прошлому. Говорю о «потере времени» не из высокомерия и высокой оценки своего труда, а с точки зрения своих задач. Для синтезирующего очерка мне приходилось пускаться в исследования, результаты которых в таком очерке могли быть отмечены подчас лишь одною строкою, словом-эпитетом или даже просто пройдены молчанием. Раздражало, когда приходилось наталкиваться на ложные указания и поспешно-легкие выводы, выбрасывавшиеся без всяких поводов и мотивов, заимствовавшиеся из популярных компиляций популярных дилетантов и случайных суждений случайных авторитетов, повторявшиеся без проверки от автора к автору, от книги к книге и только сбивавшие с правильного пути, спять-таки заставлявшие терять силы и время на поиски в направлении, не ведущем к цели, а удаляющем от нее. Некоторые отступления в тексте, изыскательного и полемического свойства, которые могут показаться излишними,—хотя я и сам очень от них воздерживался — есть дань этой моей неудовлетворенности, а полемические, кроме того, и дань, по большей части, моего уважения к соответствующим авторам. Впрочем, эти отступления выделены отступлением и сжатием набора.
Но теперь, когда я обозреваю затраченную работу в целом, сгладилась досада, спало раздражение, и я не мо
гу не благодарить, хотя и немногочисленных, своих предшественников. Я вижу, что без их работы мне было бы еще труднее, а многое и вовсе укрылось бы от меня. В особенности не могу без благодарности вспомнить о работах по истории русской философии Я. Н. Колубоеского и Э. А. Радлова, а отчасти и о Материалах проф. Е. А. Боброва. Еще полезнее, конечно, монографические и специальные работы кн. Е. Н. Трубецкого (о Вл. Соловьеве), С. А. Аскольдова (о Козлове), Н. А. Бердяева (о Хомякове), В. Ф. Эрна (о Сковороде), И. И. Лапшина (о Радищеве), Д П. Миртова (о Каринском) и др. Не меньше, а подчас и еще больше я обязан историкам нашей литературы, в особенности авторам таких исследований, как исследования Н. К. Козмина (о Надеждине), П. Н. Сакули-на (о кн. Одоевском), М. О. Гершензона (о Чаадаеве), А. А. Корнилова (о Бакунине) и под<обных>.