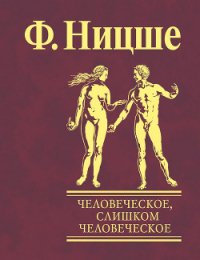Внутренний опыт - Батай Жорж (книги онлайн TXT) 📗
В такой драматизации —часто принужденной — возникает что-то комичное, глупое, смехотворное. Если бы мы не умели драматизировать, мы не умели бы смеяться, а смех всегда наготове, всегда готов бросить нас в новое сплавление, оставить на произвол уже совершенных ошибок, на этот раз без всякого авторитета.
Драматизация может стать всецелой лишь тогда, когда идет изнутри, но ее вообще может не быть без некоторых наивных стремлений — вроде стремления никогда не умирать. Оказавшись внутренней и всецелой, она пала жертвой исключительного, ревнивого авторитета (поскольку было не до смеха, она стала еще более принужденной). И все это для того, чтобы бытие не сосредоточивалось слишком на самом себе, чтобы человек не кончал свою жизнь скупым лавочником или старым развратником.
Между лавочником, развратником и святошей, притаившимся в ожидании спасения, столько сходств, что все они могут быть соединены в одной личности.
Другой экивок: он связан с компромиссом между позитивным авторитетом Бога и негативным авторитетом устранения страдания. Воля к устранению страдания приводит нас к действию, вместо того, чтобы замкнуть в кругу драматизации. Действие, призванное устранить страдание, ведет в конечном итоге в противоположную от драматизации сторону, которая начиналась во имя этого устранения: нас не тянет более к краю возможного, мы залечиваем раны зла (без особого успеха), а возможное тем временем теряет всякий смысл; мы живем проектом, замыкаясь (под покровом непримиримой вражды) в один мирок с развратником, лавочником, эгоистичным святошей.
Применяя эти приемы крайней драматизации, но оставаясь внутри традиции, мы рискуем уклониться от нее. Стремление никогда не умирать и даже обычные приемы драматизации — за исключением униженности перед Богом — почти напрочь отсутствуют у Иоанна Креста, который, погружаясь в ночь незнания, доходит до самого края возможного; с иными это было не столь явственно, хотя, быть может, они достигали той же глубины.
Киркегор [11] , вынужденный доводить до предела возможного и почти до абсурда каждый элемент драмы, 11 Киркегор, Сёрен (1813-1855)— датский писатель, теолог, философ, предтеча авторитет которой был передан ему традицией, движется в мире, где не на что опереться, где иронии дана полная свобода.
Рискну сказать самое главное: следует отбросить внешние средства. Драматичность не в том, чтобы быть в тех или иных позитивных условиях (быть наполовину потерянным или иметь возможность быть спасенным). Драматичность в том, чтобы просто быть. Понять это — значит последовательно оспаривать все мнимости, благодаря которым мы прячемся от самих себя. Речь уже не о спасении — это самая презренная из мнимостей. Трудность же — которая заключается в том, что оспаривать приходится от имени авторитета, — разрешается следующим образом: я оспариваю от имени оспаривания, которое и есть опыт как таковой (воля дойти до края возможного). Опыт, его авторитет, его метод ничем не отличаются от оспаривания.
Я мог бы сказать себе следующее: ценность и авторитет заключаются в экстазе, внутренний опыт — это экстаз, а экстаз, как кажется, это сообщение, которое противится сосредоточенности на себе, о которой я говорил. Но сказав такое, я бы уже узнал и нашел (было время, когда я так и думал). Однако мы доходим до экстаза через оспаривание знания. Стоит мне остановиться на экстазе, ухватиться за него, как я сразу же его определяю. Но ничто не в силах устоять перед оспариванием знания, и в конце концов я увидел, что сама идея сообщения оставляет тебя в наготе, в полном неведении. Что экзистенциализма XX века.
бы с ней ни сталось, не имея, дойдя до крайности, позитивного откровения, я не могу дать ей ни основания, ни цели. Я пребываю в нестерпимом незнании, которое знать ничего не хочет, кроме самого экстаза.
Но в этом состоянии наготы, безответного моления я все же замечаю следующее: оно держится на устранении мнимостей. Так что, когда отдельные знания остаются сами по себе, а их почва уходит из-под ног, я — на краю гибели — хватаюсь за единственную приоткрывшуюся наконец истину человека: он призван быть безответным самоказнением.
Набравшись запоздалой наивности, страус высвобождается наконец из песка и странно таращит один глаз… Но даже если меня станут читать по доброй воле и с самым большим вниманием, доходя до последней степени убежденности, это не будет еще состоянием наготы. Ибо нагота, гибель, казнение суть прежде всего понятия, прибавленные к другим понятиям. И хотя они связаны с устранением мнимостей, сами они — расширяя области знания — становятся мнимостями. Так работает в нас рассуждающая мысль. И эта трудность выражается следующим образом: даже слово “тишина” производит шум, говорить — значит воображать себе, что знаешь; дабы не знать, следовало бы больше не говорить. Глаза будто бы высвободились из песка, раскрылись, и я заговорил: слова, которые служат лишь убеганию, вновь уводят меня к мнимостям, на пути бегства. Да, глаза открылись, что правда, то правда, но не надо было об этом говорить, надо было замереть наподобие насторожившегося зверя. Мне захотелось говорить, и глаза тихо закрылись сами собой, будто бы под тяжестью тысячи снов, принесенных словами.
Дух обнажается “по прекращении всяческой умственной деятельности”. В противном случае рассуждение держит его в жалкой сосредоточенности. Рассуждение [12] , стоит только захотеть, может утихомирить любую бурю, но как бы я ни старался, ветер не пронзит меня ледяной стужей подле огня. Различие между внутренним опытом и философией: в опыте речь ничто, разве лишь средство, но как средство она будет препятствием; не суть важна речь о ветре, важен сам ветер.
Теперь мы видим второй смысл слова “драматизировать”: это воля, которая прибавляется к рассуждению, — не держаться за речь, это обязанность чувствовать ледяную стужу ветра, быть нагим. Вот откуда исходит драматическое искусство, которое использует чувство, а не рассуждение, стремится поразить, подражая для этого шуму ветра и обдавая ледяной стужей, как бы заражая: оно заставляет артиста дрожать на сцене (философ, избегая этих топорных средств, окружает себя дурманящими знаками). В этом отношении характерно классическое заблуждение относительно “Упражнений” святого Игнатия [13] : их сводят к рассуждению о методе. На самом де12 Рассуждение — один из главных антиконцептов “Внутреннего опыта”. Рассуждающему характеру сознания Батай противопоставляет метод медитации, развивающий технику озарений, прозрений, выскальзывания сознания из субъективности. По существу, да и буквально, дело идет о сопротивлении тому, что в настоящее время называют “дискурсом” (discours), “дискурсивными формами”.
13 Лойола, Игнатий (1491—1556)— испанский дворянин, основатель ордена иезуитов. “Духовные упражнения” являются своего рода “педагогической поэмой” ле, они сообразуются со всевластием рассуждения, но только в драматическом модусе. Рассуждение увещевает: представь себе, судит да рядит оно, место действия, персонажей драмы и держи себя так, словно ты один из них; напряги свою волю — гони прочь отупление, отсутствие, к которым тебя склоняют слова. Истина, однако, в том, что “Упражнения”, целиком проникнутые ужасом перед рассуждающей мыслью (перед отсутствием), пытаются все сгладить через напряжение рассуждения; случается, эта уловка не проходит (с другой стороны, предложенный в “Упражнениях” объект созерцания безусловно драматичен, но драма включена в исторические категории рассуждающей мысли, ей так же далеко до не имеющего ни формы, ни модуса Бога Кармы, как алчущим иезуитам —до внутреннего опыта).