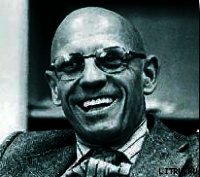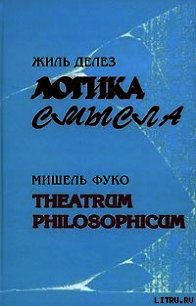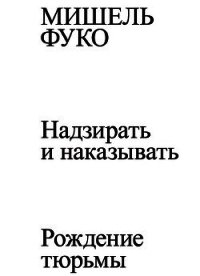Нужно защищать общество - Фуко Мишель (бесплатные полные книги txt) 📗
Исходя из этого можно понять и второй факт: а именно, изменение формы догматизма. Внутренняя дисциплина знаний ведет к появлению особой формы контроля с предназначенным для этой цели аппаратом; новая форма контроля, понятно, позволяет абсолютно отвергать то, что ранее считалось ортодоксией, претендовавшей на контроль в отношении высказываний. Ортодоксией дорогостоящей, так как старая ортодоксия, основа религиозного, церковного контроля над знанием, влекла за собой осуждение, исключение некоторого числа высказываний, которые в научном отношении были истинны и плодотворны. Такая ортодоксия, которая в своих контрольных функциях касалась самих высказываний и сортировала их на соответствующие и несоответствующие, на приемлемые и неприемлемые, в ходе внутреннего дисциплинирования знаний, происшедшего в XIX веке, была заменена на другое: на контроль, который не касался содержания высказываний, их соответствия или несоответствия определенной истине, а распространялся на правомерность высказываний. Вся суть состояла теперь в том, чтобы знать, кто говорил и имел ли он квалификацию, чтобы говорить, к какому уровню принадлежит высказывание, в какую совокупность оно может быть помещено, как и в какой мере оно соответствует другим формам и типологиям знания. Это допускает сразу, с одной стороны, либерализм в том, что касается самого содержания высказываний, либерализм если не безграничный, то, по крайней мере, довольно широкий, а с другой стороны, бесконечно более строгий контроль, более масштабный, широкий, который осуществляется на самом уровне процедур высказывания. И сразу из этого вполне естественно следует возможность гораздо большей ротации высказываний, гораздо более быстрого устаревания истин; это объясняет эпистемологическое растормаживание. Насколько ортодоксия, ориентированная на содержание высказываний, была помехой обновлению запаса научных знаний, настолько же дисциплинирование на уровне высказываний позволило с гораздо большей скоростью обновлять высказывания. Иначе говоря, от цензуры высказываний перешли к дисциплине высказывания, или же от ортодоксии перешли к чему-то, что я бы назвал «ортологией», имея в виду форму контроля, которая теперь осуществляется исходя из дисциплины.
Ладно! Я немного заблудился во всем этом… Ранее было проведено исследование и показано, как дисциплинарные техники власти 10, взятой на ее самом разреженном, самом элементарном уровне, на уровне тел самих индивидов, смогли изменить политическую экономию власти, модифицировали ее аппараты; как те же самые дисциплинарные техники власти, обращенной на тело, вызвали не только накопление знаний, но и разблокировали области возможного знания; и затем, как запущенные властью формы обращенной на тела дисциплины выгнали из этих подчиненных тел душу-субъект, «я», психическое и т. д. Все это я пытался исследовать в последний год. 11 Я думаю, что теперь нужно было бы изучить, как осуществляется другая форма принуждения к дисциплине, дисциплинированию, которое устанавливается одновременно с первой, но касается не тел, а знаний. И я думаю, можно было бы показать, как относящееся к знаниям дисциплинирование вызвало эпистемологическую разблокировку, новую форму, новую последовательность в умножении знаний. Можно было бы показать, как дисциплинирование ведет к новому порядку в отношениях между властью и знанием. Можно было бы показать, наконец, как на основе дисциплинированных знаний возникло новое принуждение, теперь уже не принуждение со стороны истины, а принуждение со стороны науки.
Все это несколько отдаляет нас от королевской историографии, от Расина и Моро. Можно было бы возобновить анализ (но я этого не буду здесь делать) и показать, каким образом в тот самый момент, когда история, историческое знание как раз вошло во всеобщую область борьбы, история оказалась, но в силу других причин, в основном в той же ситуации, что и технологические знания, о которых я вам только что говорил. Технологические знания с их дисперсией, с присущими им морфологией, регионализацией, с их локальным характером, с окружающей их тайной были одновременно целью и инструментом экономической и политической борьбы; и в эту общую борьбу одних технологических знаний с другими вмешалось государство, выполняя функцию, роль дисциплинирования, что одновременно означает селекцию, гомогенизацию, иерархизацию, централизацию. И историческое знание в силу совершенно других причин и почти в ту же самую эпоху включалось в область борьбы и сражений. Определяющими здесь были не непосредственно экономические причины, а борьба, и борьба политическая. В самом деле, когда историческое знание, которое до того было частью дискурса государства или власти о себе самой, было оторвано от власти и стало инструментом политической борьбы, власть начала на протяжении всего XVIII века прилагать усилия для овладения им и подчинения его дисциплине, как она это делала в отношении технологических знаний. Создание в конце XVIII века министерства истории, создание большого хранилища архивов, которое к тому же должно было стать в XIX веке Школой хартий, что произошло почти одновременно с созданием Высшей горной школы, Школы мостов и дорог, — неважно, что последняя создавалась немного иначе, — также соответствует дисцишшнированию знания. Для королевской власти речь шла о том, чтобы установить дисциплину в историческом знании, в исторических знаниях и утвердить таким путем государственное знание. В сравнении с технологическим знанием выявляется только одно различие: в той самой мере, в какой история — как я думаю — является знанием, по существу, антиэтатистским, между дисциплинированной государством историей, ставшей содержанием официального обучения, и историей, связанной с борьбой, выступающей как форма сознания борющихся субъектов, существует постоянное столкновение. Противостояние не уменьшается проведением дисциплинаризации. Если можно сказать, что в области технологии осуществленное в течение XVIII века дисциплинирование было в целом действенным и успешным, то зато в отношении исторического знания, хотя и проводилось дисциплинирование, но оно не только не помешало, а в конечном счете усилило, по причине разыгрывающихся битв, конфискаций, взаимных споров, негосударственную историю, историю децентрализованную, историю борющихся субъектов. И поэтому мы постоянно имеем два уровня исторического сознания и исторического знания, два уровня, которые наверняка стремятся все больше и больше соприкоснуться друг с другом. Но подобный сдвиг никогда не помешает существованию того и другого: с одной стороны, подлинно дисциплинированного знания в форме исторической дисциплины и, с другой стороны, полиморфного, разделенного и борющегося исторического сознания, которое является просто другим аспектом, другим лицом политического сознания. Это очень малая часть того, о чем я попытаюсь вам рассказать, имея в виду конец XVIII и начало XIX века.
Лекция от 3 марта 1976 г. *
Тактическое обобщение исторического знания. — Конституция, Революция и циклическая история. — Дикарь и варвар. — Тройная фильтрация варвара: тактические формы исторического дискурса. — Вопросы метода: эпистемическая область и буржуазный антиисторицизм. — Возрождение исторического дискурса во время Революции. — Феодализм и готический роман.
В последний раз я вам показал, как сформировались, конституировались усилиями аристократической реакции начала XVIII века историко-политический дискурс и историко-политическая сфера. Я хотел бы теперь перенестись в другое время, а именно, в период французской революции, в определенный ее момент, когда можно отчетливо увидеть в ней два процесса. С одной стороны, можно видеть, как дискурс, поначалу связанный с аристократической реакцией, широко распространяется не только потому, что становится регулярной, канонической формой исторического дискурса, но и потому, что его стали использовать тактически как инструмент не только знать, а в конечном счете представители любых политических направлений. Действительно, историческое знание на протяжении XVIII века, конечно, при помощи определенного числа модификаций в основных положениях, становится в итоге своего рода полезным дискурсивным оружием, к которому обращаются все политические противники. В целом, я хотел бы вам показать, почему этот исторический дискурс не должен восприниматься как идеология или идеологический продукт дворянства и его классовой позиции, и вообще не об идеологии здесь идет речь; я имею в виду другое, что я как раз пытаюсь наметить и что могло бы представлять собой дискурсивную тактику, механизм знания и власти, который именно в качестве тактики может передаваться и в результате оказывается одновременно и способом образования знаний, и общей формой политической борьбы. Итак, распространение дискурса об истории, но в качестве тактического оружия.