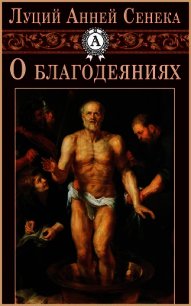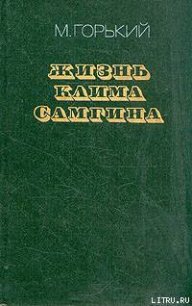Нравственные письма к Луцилию - Сенека Луций Анней (электронную книгу бесплатно без регистрации TXT) 📗
(30) Кто считает их неравными, тот смотрит только на внешность, отворачиваясь от самих добродетелей. Истинные блага все одного веса, одного размера, в подложных — много пустоты, и те, что на взгляд велики и приметны, обманывают на проверку весом.
(31) Да, это так, мой Луцилий: что подтверждает истинный разум, то прочно и вечно, то укрепляет душу и навсегда возносит ее ввысь; что восхваляется без ума, что есть благо лишь по мненью толпы, то раздувает душу пустым весельем; а что пугает и считается злом, то сковывает ее ужасом и гонит, как гонит зверей мнимая опасность. (32) И то и другое восхищает или гложет душу без причины: ведь первое не заслуживает радости, второе — страха. Один разум неизменно держится своих суждений, ибо он не раб, а повелитель чувств. Разум равен разуму, как правильное правильному; значит, добродетель равна добродетели, коль скоро она есть правильность разума. Всякая добродетель есть разум; она есть разум, если она правильна; а если она правильна, то равна другой. (33) Каков разум, таковы и поступки; значит, и они равны, ибо все подобное разуму подобно и между собой. Я имею в виду, что поступки равны между собою благородством и правильностью; в остальном различия будут велики, смотря по тому, широко или узко то, на что они направлены, славно оно или бесславно, многих или немногих касается. Но лучшее в них во всех одно: их благородство. (34) Так и люди добра равны именно тем, что они — люди добра, хотя различаются возрастом, — одни старше, другие моложе, различаются наружностью — одни красивы, другие нет, различаются судьбами — одни богаты, другие бедны, одни любимы, могущественны, известны целым городам и народам, другие неизвестны почти никому и неприметны. Но добродетель их всех уравнивает. (35) О добре и зле не чувству судить: что полезно, что бесполезно, оно не ведает. Вынести приговор оно может, только если дело у него перед глазами. Будущего оно не предвидит; прошлого не помнит; как одно вытекает из другого, не знает. А между тем только так порядок и череда дел и сплетаются в единство жизни, идущей правильным путем. Разум вот судья добра и зла; все постороннее и внешнее он не ставит ни во что, все, что не благо и не зло, считает побочным, ничтожным и неважным, а все благо для него — в душе. (36) Затем одни блага — те, к которым стремятся намеренно, — он считает первыми: таковы, например победа, хорошие дети, польза отечества; другие блага он считает вторыми — те, которые становятся видны только в беде: например спокойствие и терпение в тяжкой болезни, в изгнании; третьи блага для него — промежуточные: они и не согласуются с природой, и не перечат ей — например скромная походка или уменье сидеть пристойно. Ведь сидеть[1] так же естественно, как стоять или расхаживать. (37) Два высших рода благ различны между собою; первые согласны с природой: радоваться преданности детей, прочности отчизны; вторые — противны природе: мужественно сопротивляться пыткам, сносить жажду, когда болезнь жжет грудь. — (38) «Так что же, есть блага, противные природе?» — Нет, — но то, в чем это благо проявляется, бывает противно природе. Принимать раны, гореть на огне, мучиться, потеряв здоровье, — все это противно природе; но среди таких невзгод сохранить душу неустанной — это согласно с природой. (39) Говоря короче, обстоятельства, в которых обнаруживается благо, иногда противны природе, а само оно — никогда: ведь нет блага помимо разума, а разум следует природе.
«Что же такое разум?» — Подражание природе. — «Что есть высшее благо для человека?» — Поступать по воле природы. — (40). «Но ведь нет сомнения, что мир никогда не тревожимый счастливее добытого обильной кровью; нет сомнения, что больше счастья сохранять нерушимое здоровье, чем обрести его вновь после тяжких и грозящих смертью болезней благодаря терпению или иной силе. Значит, точно так же нельзя сомневаться, что радость — большее благо, чем упорная душа, терпеливая к мукам, ранам и огню». — (41) Вот уж нет! Все случайное бывает раз личным, ибо измеряется пользой тех, кому случай выпал. Все блага имеют в виду одно: быть согласными с природой; достигнув этого, они все равны. Когда мы в сенате присоединяемся к чьему-нибудь мнению, нельзя сказать: этот согласен больше, тот меньше. Все согласные идут в одну сторону[4]. То же я говорю и о добродетелях: все они согласны с природой. То же я говорю и о благах: все они согласны с природой. (42) Один умер в юности, другой в старости, третий — в младенчестве, едва успев увидеть жизнь; но все они были одинаково смертны, хотя жизни одних смерть позволила продлиться дольше, жизнь других оборвала в расцвете, третьих — в самом начале. (43) Один угас за ужином, у другого сон перешел в смерть, третьего убило совокупленье. Сравни с ними пронзенных копьем, погибших от укуса змеи, раздавленных обвалившейся кровлей или тех, у кого долгое окостенение жил отнимало член за членом. Можно сказать, кончина у одних была лучше, у других хуже, — но смерть у всех была смертью. Нашли они ее по-разному, а кончили все одним. Смерть не бывает больше или меньше: для всех она — конец жизни. (44) То же я говорю тебе и о благах: одно живет среди сплошных наслаждений, другое — среди бедствий и горестей, одно справляется с милостями фортуны, другое умеряет ее удары; но и то и другое — блага, хотя одно идет гладким путем, другое — тернистым. Ведь цель у них одна: все они — блага, все заслуживают хвалы, все сопутствуют разуму и добродетели; а добродетель равняет все, что признает своим.
(45) И нет причин удивляться, что такое мнение принято у нас. Ведь и у Эпикура есть два блага, из которых и слагается высшее блаженство: отсутствие боли — в теле, волнения — в душе. Эти блага, достигнув полноты, уже не возрастают: ведь к полному нельзя ничего прибавить. Тело не чувствует боли: может ли это ее отсутствие вырасти? Душа довлеет себе и безмятежна: может ли вырасти это спокойствие? (46) Как чистота безоблачного неба, сверкающая и не замутненная, не может блистать ярче, так человек, пекущийся о душе и о теле и в обоих видящий источники своего блага, приходит к совершенному состоянию, к исполнению всех своих молитв, если в душе его нет бури, а в теле — боли. Если извне выпадает ему что-нибудь приятное, оно не увеличивает высшее благо, а, так сказать, приправляет его и подслащивает; независимое же благо человеческой природы довольствуется миром в теле и в душе. (47) Я укажу тебе у Эпикура разделение благ, весьма схожее с нашим. Одни блага — те, которые он предпочел бы иметь, как, например, для тела — покой, свободный от всего неприятного, для души — невозмутимость радостного созерцания собственных благ. Других благ он для себя не хочет, но считает и их заслуживающими похвалы и одобрения, — например то, о чем я недавно говорил, терпение к недугу и тяжким болям, которое сам Эпикур выказал в свой последний и счастливейший день. Хотя, по его словам, изъязвленный живот и мочевой пузырь доставляли ему такие муки, что больше и не бывает, все равно этот день был для него блаженным [5]. А прожить день блаженно может только тот, кто обладает высшим благом. (48) Значит, и у Эпикура считается благом то, чего лучше было бы не испытать, но что, коль скоро дело обернулось так, следует и принять, и хвалить, и приравнять к высшему благу. Ведь нельзя сказать, что не равно высшему то благо, которое завершило блаженную жизнь и которому Эпикур воздает хвалу в последних своих словах.
(49) Позволь мне, Луцилий, лучший из людей, сказать и посмелее: если бы одни блага могли быть больше других, я предпочел бы те, что кажутся горестными, всем нежащим и ласкающим, и назвал бы их более высокими. Ведь справиться с тяготами куда труднее, чем умерить радость. (50) Я знаю, один и тот же разум позволяет достойно переносить счастье и мужественно — беды. Одинаково храбры могут быть и тот, кто безмятежно стоит в карауле перед валом, когда враг не тревожит лагеря, и тот, кто с подрезанными жилами на ногах падает на колени и не выпускает оружия. «Слава твоей доблести!» — так говорят тем, кто в крови возвращается из боя. И я бы больше похвалил блага, испытанные в борьбе с фортуной и мужественные. (51) Разве поколебался бы я прославить искалеченную и обожженную длань Муция больше, чем здоровую руку любого храбреца? Он стоял, презирая врагов и пламя, и смотрел, как каплет с его руки кровь на вражеский очаг, покуда Порсенна не позавидовал славе того, чьей пыткой любовался, и не приказал убрать огонь против воли Муция. (52) Так почему мне не считать это благо в числе самых великих и ставить его тем выше благ безмятежных и не испытанных судьбою, чем реже победа над врагом, одержанная не с оружьем в руке, а ценой потерянной руки? — «Что же, ты и для себя пожелал бы этого блага?» — Почему бы и нет? Ведь только тот, кто может такое пожелать, и сделает такое. (53) А что мне предпочесть? Чтобы распутные мальчишки разминали мне ручки? Чтобы какая-нибудь бабенка или превращенный в бабенку юнец вытягивал мне каждый пальчик? Почему не считать мне счастливее Муция, протянувшего руку в огонь, как протягивают ее рабу для растирания? Так исправил он свою оплошность: безоружный, однорукий, он положил конец войне и обрубком победил двух царей. Будь здоров.