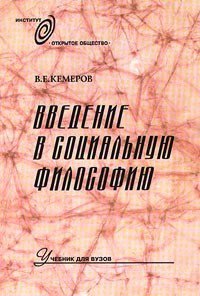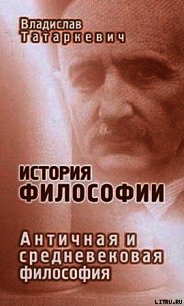Непостижимое - Франк Семен (бесплатная регистрация книга .TXT) 📗
Но теперь нам надлежит – за пределами этой общеметодологической или формально-онтологической связи – глубже проникнуть в подлинную структуру бытия как непосредственного самобытия. В нашем словесном обозначении этого способа бытия как «непосредственного самобытия» уже намечено в нем некое двуединство – именно двуединство между бытием как чистой непосредственностью и бытием как «самостью». То и другое мы должны теперь точнее фиксировать [78].
Есть состояния непосредственного самобытия или черты в нем, в которых его существенное сродство или единство с непостижимым как с реальностью в ее слитном, недифференцированном всеединстве выступает наружу с полной очевидностью. Одно из них есть сумеречно-сонное состояние душевной жизни, напр., бессмысленно-неподвижное пребывание ее в себе, или дремота, как переход от сознания к чистому самозабвению во сне без сновидений. (Это состояние с изумительной выразительностью и глубиной мысли описано Тютчевым в стихотворении «Тени сизые смесились…», к которому мы здесь отсылаем читателя, не цитируя его.) В этом состоянии «душа», т. е. непосредственное самобытие, просто слито с бытием в его всеобщности и непосредственности в одно нераздельное и необозримое целое: «все во мне – и я во всем». Но есть состояние и как бы прямо противоположного рода, в котором мы, однако, испытываем то же сущностное сродство нас самих с хаотической всеобщностью бытия. Когда страсть – будь то в счастьи или страдании, в испуге («паническом» страхе) или гневе, в любви и ненависти – настолько овладевает нами, что мы в состоянии «экстаза» как бы «выходим из себя» и теряем из виду ограничивающую наше «я» предметную действительность, то наше «я», наше «самобытие» как бы тонет и исчезает в бурном потоке всеобъемлющего хаоса. Это жизнечувствие имеет в виду тот же Тютчев, когда описывает, как в вое ночного ветра ему слышится призывный крик, на который откликается «хаос» в нашей душе («О чем ты воешь, ветер ночной?…»). Когда стихия внутреннего бытия либо тихо, незаметно, как бы в форме стоячей воды, затопляет свои берега и безгранично расплывается, либо же несется бурным потоком, также все затопляющим вокруг себя, – мы имеем смутное чувство сущностного сродства и единства этого нашего внутреннего бытия с темной бесконечностью всеединой реальности. В обоих случаях как бы стираются грани, отделяющие отчетливо-зримую, утвержденную в самой себе, извне нам предстоящую действительность предметного мира от того, что мы сознаем в противоположность ей как наше внутреннее бытие; то и другое сливается в неразличимое хаотически-безбрежное единство бесформенного бытия вообще. Такие состояния суть явные свидетельства того, что что-то в нас действительно проистекает из этой темной бесконечности исконно-непосредственного бытия вообще и образует с ним единство. Единство это как-то испытывается во всяком мистическом экстазе; отчетливее всего оно выражено в отождествлении «брахмана», абсолютного, с «атманом», с глубочайшей основой души, в индусской мистике «Упанишад». То, что здесь речь идет о неких исключительных, относительно редких состояниях, само по себе не может быть возражением против онтологической их важности и поучительности; ибо именно в исключительных состояниях может обнаруживаться и открываться нам нечто очень существенное, имеющее общее значение.
С другой стороны, однако, совершенно очевидно, что своеобразие таких состояний заключается в ослаблении или даже потере нашей «самости», т. е. именно одного из существенных признаков того, что мы обозначаем как «непосредственное самобытие». «Самость» здесь как бы исчезает, испаряется и оставляет за собой только саму непосредственность бытия, которая тогда как-то совпадает со слитным безграничным единством безусловного бытия вообще; то и другое неразличимо сливается в некое безличное «оно» или «нечто». Под «самостью» мы разумеем здесь не «субъект» или «я» как «носителя» или «субстанцию» непосредственного самобытия, и тем более не «личность»; все понятия такого рода опирались бы уже на слишком специфические и определенные предпосылки – предпосылки, которые мы отчасти еще совсем не рассматривали или же смутность и произвольность которых нам уже уяснилась. Но и за устранением всех более специфических признаков, присущих этим понятиям, мы сохраняем сознание, что в лице непосредственного самобытия мы имеем дело с чем-то – в известном смысле – все же совсем иным, чем непостижимое, в качестве реальности некого слитно-всеобъемлющего недифференцированного и безграничного всеединства. Именно в этой инаковости, которая часто выражается в противоположности всему остальному, в противодействии ему, в упорном самоутверждении, заключается специфический момент бытия как самобытия. Самобытие есть именно собственное бытие – «мое собственное бытие»; оно содержит в себе некий момент упорства или упрямства единично-сущего в его сознании своего самобытия (на немецком языке понятие упрямства и выражается в слове «Eigensinn»=«Sinn für das Eigene», чувство того – или воля к тому, – что есть мое «собственное» существо или из него истекает). Это есть тщательно охраняемая отдельная, «мне принадлежащая» сфера бытия, против отчуждения которой или смешения с «внешним», со всем, что не принадлежит к ней самой, мы всегда решительно восстаем. Эта «самость» осуществляется всегда как-то в одиночестве, в замкнутости и не может быть исчерпана ни в каком общении, сообщении, самообнаружении, – не может без остатка осуществиться, высказаться и разрешиться в них. Поскольку мы действительно сознаем наше непосредственное самобытие – что, как уже указано, бывает далеко не всегда и, собственно, встречается лишь довольно редко, – мы сознаем себя чем-то в точнейшем смысле слова «не от мира сего», чем-то молчаливым, недоступным для всего остального – словом, сферой бытия, которая есть именно только для себя самой – и ни для кого другого.
Вместе с тем, однако, эта самость есть по своему существу бытие, которое внутренне – для себя самого – есть нечто абсолютное или, точнее, само абсолютное – единственное, основа и средоточие для всего остального, – ибо все остальное существует именно для «самости», приобретает уловимую реальность, смысл и ценность лишь в своем отношении к ней. «Самость» в этом качестве есть бесконечность, неизмеримо-всеобъемлющее царство, некий космос для себя, который по своему существу безграничен и все объемлет. Для себя самого она вечна, ибо непосредственное самобытие есть именно чистое бытие и совсем не может мыслить себя несущим. В своей последней глубине самость сознает свою непосредственную связь, свое сущностное единство с абсолютным, имеет самое себя как абсолютное. И все же она, с другой стороны, не есть всеединство, а, напротив, как уже указано, противостоит и противопоставляет себя ему, отделяется от него и имеет себя именно только в этой своей отдельности и отделенности. «Самость» есть некое всеединство, одно из всеединств, которое, однако, не есть всеединство вообще – всеединство как таковое – и имеет себя именно вне последнего.
Если мы попытаемся фиксировать в понятии это двойственное существо «самости», то мы можем сказать, что этот самый общий смысл самобытия заключается, очевидно, в том, что в его лице безграничное выступает в конкретной форме ограниченного. Объемля бесконечно многое, самобытие вместе с тем конечно, ограничено чем-то иным; оно есть, нечто, что в каком-то смысле есть все и вместе с тем есть все же только единичное существо. «Душа, – как говорит Аристотель, – есть некоторым образом „все“; но она есть „все“ именно только «некоторым образом»; ибо одновременно она именно и не есть все, а есть только единичное. [79] «Все» – всеединство бытия, – взятое как единичное, и есть именно то, что мы разумеем под непосредственным самобытием. Будучи в каком-то смысле всеобъемлющим, абсолютным, оно все же такое абсолютное, которое отделяется от всего остального и имеет его вне себя; оно как бы сжимается, уходит вовнутрь себя и именно в этой умаленной, стиснутой форме бытия – именно в качестве лишь одного среди многого иного – имеет себя, есть бытие-для-себя, или «самобытие». И каждое «самобытие» есть не только одно среди многого иного; оно есть вместе с тем само нечто абсолютно «иное», т. е. единственное, неповторимое и незаменимо своеобразное. Именно поэтому оно в известном смысле абсолютно одиноко, не может без остатка исчерпать, выразить, осуществить себя ни в каком обнаружении для другого, ни в каком общении; оно содержит в себе и есть нечто – именно самый момент «самости», – что все же остается всегда несказанно-немым в себе и у себя самого. Но именно в этом отношении оно опять-таки подобно и внутренне сродно самому Абсолютному – безусловно единственному; вот почему влечение человеческой души к Абсолютному, к Богу, есть – по меткому слову Плотина – бегство единственного (одинокого) к единственному (одинокому), φυγη του µόνον πρός τον µόνον.