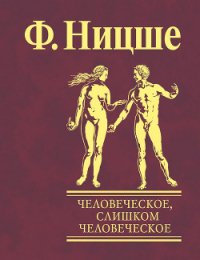Внутренний опыт - Батай Жорж (книги онлайн TXT) 📗
Затем, в моральную эпоху человечества, жертвовали Богу сильнейшими из своих инстинктов, своей “природой”; эта праздничная радость сверкает в жестоком взоре аскета, вдохновенного “противника естественного” Наконец, — чем осталось еще жертвовать? Не должно ли было в конце концов пожертвовать всем утешительным, священным, целительным, всеми надеждами, всей верой в скрытую гармонию, в будущие блаженства и справедливость? не должно ли было в конике концов пожертвовать самим Богом и, из жестокости к себе, боготворить камень, глупость, тяжесть, судьбу, Ничто? Пожертвовать Богом за Ничто — эта парадоксальная мистерия последней жестокости сохранилась для подрастающего в настоящее время поколения: мы все уже знаем кое-что об этом” (“По ту сторону добра и зла”, 55).
Полагаю, что жертвуют теми благами, которыми можно злоупотребить (в основе всякого потребления лежит злоупотребление).
Человек скуп, вынужден быть скупым, но осуждает скупость, которая есть не что иное, как свалившаяся на него необходимость, — и ставит выше всего дар, дарение себя или благ, которыми он обладает; единственно дар и приносит человеку славу. Обращая растения и животных своей пищей, человек, тем не менее, признает за ними священный характер, который и делает их столь на него похожими, что просто невозможно уничтожить или потребить их, не испытав при этом страха. Перед лицом любого поглощаемого (к своей пользе) элемента человек чувствовал необходимость загладить совершенное злоупотребление. Некоторым людям выпало на себе узнать жертвенное бремя животных и растений. Эти люди поддерживали с растениями и животными священные отношения, сами их не ели, одаривали ими других людей. Если им случалось что-то такое съесть, то бережливость, с какой они это делали, говорила сама за себя: они заведомо знали о беззаконном, тяжком, трагическом характере потребления. Не в том ли существо трагедии, что человек может жить не иначе, как разрушая, убивая, поглощая?
И не только растения и животных, но и других людей.
Ничто не может сдержать дело человеческое. И пресыщение возможно (если и не для каждого — многие сходят с этого пути по соображениям собственной выгоды, — то для всех) только тогда, когда становишься всем.
На этом пути был сделан всего один шаг, но этот шаг привел к тому, что один человек стал порабощать других, превратил своего ближнего в вещь, которой можно владеть, которую можно поглощать, как животных или растения. Но то обстоятельство, что человек стал вещью человека, имело одно важное следствие: господин, или суверен, вещью которого был раб, удалялся из-под сени человеческой сопричастности, нарушал сообщение между людьми. Отступление суверена от общего правила привело к уединению человека, к его разорванности на куски, лишь время от времени можно было собрать человека воедино, а потом и вовсе было нельзя.
Владение пленниками, которых можно было есть, или безоружными рабами, с которыми позволялось делать все, что хочешь, поставило человека — как существо присваиваемое — в разряд объектов, которыми можно было время от времени жертвовать (точно так, как растениями и животными, уже без нарушения закона). Впрочем, случалось, что люди страдали от отсутствия сообщения, которому препятствовало уединенное существование вождя. Чтобы обеспечить возвращение к общности всего народа, убить надлежало не раба, но царя. Должно быть, людям казалось, что нет человека более достойного смерти, чем царь. Но возможность жертвоприношения сходила на нет, если царь был воином (он слишком силен). Их стали заменять карнавальными вождями (это были переодетые пленники, их баловали перед смертью).
Сатурналии, в ходе которых уничтожали этих лжецарей, на время возвращали людей в Золотой век. Все получалось наоборот: господин прислуживал рабу, а некто, воплощавший власть царя, которая и разделяла, находил там смерть, обеспечивал сплавление всех и вся в единой пляске (в единой тоске, за которой следовал вихрь единого наслаждения).
Но присвоение человеком всего того, что можно было присвоить, распространялось не только на живые организмы. Я имею в виду не столько безжалостное использование природных богатств, которое началось не очень давно (промышленность приносит не одно благоденствие, но и бедствия — нарушение равновесия, что на удивление мало привлекает внимание), сколько сам разум человека, за счет которого и происходит это всеобщее присвоение (в чем его отличие от желудка, что, переваривая пищу, не разрушает самого себя) и который сам постепенно превратился в вещь (в присвоенный объект). Человеческий разум стал себе рабом, в ходе неизбежного самопереваривания он стал поедать самого себя, порабощать, разрушать. Будучи винтиком в механизме, который он сам пустил в ход, он стал злоупотреблять собой, пошел на такое действие, результат которого ему не ясен — ибо в результате получается, что разум ничем не отличается от вещи, которую можно использовать. Все — вплоть до Бога — отдано в рабство. Тьма пожирателей ведет учет, предписывает Богу какие-то положения, затем, поскольку все непрестанно меняется, переделывается, Ему отказывают в этих положениях, доказывают Его отсутствие или бесполезность.
Когда мы говорим: “Бог умер”, одни думают об Иисусе, смерть которого возвратила Золотой век (небесное царство), равно как и век царей (но Иисус умирал в одиночестве, хотя покинувший его Бог, тем не менее, дожидался его, усадил по правую руку); другие — об упомянутом мною злоупотреблении, в ходе которого уничтожаются все ценности — по слову Декарта, разум сводится “к ясному и достоверному познанию того, что полезно для жизни”. Но слова “Пусть Бог умрет”, пусть будет принесен в жертву — исполнены глубочайшего смысла, и от облыжных речей о том, что Бог-де сводится к ясному и рабскому пониманию мира, они отличаются ровно настолько, насколько освящающее жертву человеческое жертвоприношение отличается от рабства, которое превращает жертву в орудие производства.
С каждым днем я все больше понимал, что извлеченные из книг понятия — тотемизм, жертвоприношение — порабощают мое сознание: мне все труднее говорить о том или ином историческом событии, поскольку меня обезоруживает опасность злоупотребления, которое подстерегает всякого, кто говорит об этом как о чем-то усвоенном, переваренном. Дело даже не в опасности заблуждения: она неотвратима, к тому же я настолько не боюсь блуждать, что не могу себе в этом отказать. Но скромность не позволяет мне безболезненно ворошить давно умершее прошлое. Несмотря на все свои науки, живые владеют прошлым вовсе не так, как это им мнится: им мнится, что оно у них в руках, тогда как оно из рук ускользает. У меня свои оправдания: выстраивая теорию, я все время помню, что она ведет к тому движению, которое того и гляди исчезнет из виду; о жертвоприношении, которое выпало на нашу долю, говорить можно только так.
Поскольку рабство рассудочных форм продолжает усиливаться, жертва, на которую нам надлежит пойти, превосходит жертвы наших предшественников. Уже не нужно заглаживать дарами злоупотребления человека в отношении растений, животных, других людей. Сведение человека как такового к положению раба чревато сегодня (впрочем, уже давно) некими последствиями политического характера (легче покончить со злоупотреблениями, чем вывести их религиозные следствия). Но крайнее злоупотребление разумом, на которое в недавнее время пошел человек, обязывает его к последнему жертвоприношению: человеку надлежит отринуть разум, рассудочность, саму почву, на которой он держится. Бог должен умереть в человеке — в этом вся глубина ужаса, в этом гибельная для человека крайность. Человек может обрести себя только при том условии, если без устали будет вырываться из цепких объятий скупости.
ОТСТУПЛЕНИЕ.
О ПОЭЗИИ И МАРСЕЛЕ ПРУСТЕ
Я-то чувствую ярмо, о котором говорю, но обыкновенно живут в ослеплении — и такое случается. Хочется высвободить себя, а тут поэзия… поэзия как мерило того, что окончательно сгинуло?