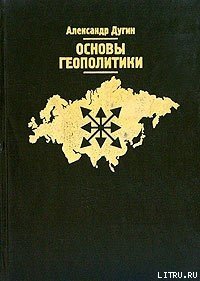Пути Абсолюта - Дугин Александр Гельевич (читать книги онлайн без .TXT) 📗
Итак, "свершение всех свершений" — конец бытия — уравнивает между собой все метафизические планы, но разделяет заново их уже на ином основании. Можно сказать, что в этом священном событии все стремящееся к адвайте, к иному, к абсолютной необходимости внутри бытия (а равно как и внутри небытия), но до поры вынужденное подчиняться закону двайты (двойственности), сливается с адвайтой, становится иным и необходимым, в то время как все остальное возвращается к потенциальному, возможному состоянию, обреченному на неизбывную и фатальную имманентность и, в конечном счете, иллюзорность. При этом возникает новая двойственность, эсхатологическая двойственность, которая есть, на самом деле, утверждение чисто иного, чисто трансцендентного, вскрывающего второе как иллюзию, и поэтому объявляющее себя как апофатически и трансцендентально единственное, строго тождественное трансцендентному последнему субъекту. Здесь происходит эсхатологическая и окончательная перегруппировка метафизики, где деление осуществляется более не на онтологической или принципиальной основе, а на основе солидарности (пускай символической!) с окончательным выбором чистого бытия, по отношению к разгадке его причины, его "зачем?". Все уровни бытия, вплоть до самых мельчайших его крупиц, познавшие тайну необходимости, приравняются в миге "свершения всех свершений" к самому абсолюту, а все, поддавшееся иллюзии в отношении достаточности возможности, удовольствовавшееся признанием произвола реальности, метафизически исчезает в имманентном и фиктивном ничто, независимо от своего метафизического статуса, даже в том случае, если этот статус максимально высок.
Конец бытия, как и конец одного из его миров, часто символизируется в Традиции приходом спасительного посланника. Будучи сущностно единым, этот посланник может иметь различные формы и различные имена, в зависимости от того, о каком из миров идет речь. Естественно, что эти формы и имена должны максимально соответствовать наиболее субъектным модальностям, возможным в данном мире, т. к. конец мира в некотором смысле совпадает с открытием его субъектного архетипа, с откровением его наиболее субъектной сущности. В отличие от конца частного цикла откровение в абсолютном конце мира также абсолютно. Поэтому спасительный посланник открывается в момент "свершения всех свершений" как абсолютный полюс. Соответственно, в каждой из метафизических модальностей этот полюс имеет свое особое обозначение. Однако специфика сугубо эсхатологического откровения состоит в том, что различие в этих особых обозначениях, в особых именах полюсов для разных миров полностью стирается и, с другой стороны, каждый из этих полюсов раскалывается сам по себе как бы на две составляющие: на полюс этого и полюс иного. Причем все трансцендентные аспекты полюсов сливаются в одно, составляя единый для всей метафизики луч иного — самого Спасителя, а все имманентные аспекты собираются в фиктивную иллюзорную фигуру его антипода. Эта идея наиболее ясно запечатлена в ранне-христианском символе амфесбены, представляющего собой единого змея с двумя головами: одна из них принадлежит Христу, другая — антихристу. [73] Кроме того, традиционное имя Христа — царь мира, а антихриста — или его отца, дьявола — "царь мира сего" ("князь мира сего"). Это разделение царских, т. е. полярных функций, этот раскол полюса на две составляющие представляет собой сугубо эсхатологическое явление, нечто, осуществляющееся в момент конца бытия. Подобный раскол характерен и для самых высших регионов метафизики, т. к. в момент конца само чистое бытие «понимает» нетождество небытия и чистой трансцендентности, что соответствует распознанию двойственности полюса, на всех нижних уровнях.
Поскольку эсхатологическая проблематика является всеохватывающей, священные персонажи эсхатологии приобретают абсолютную нагрузку. Трансцендентно ориентированный аспект субъектного архетипа и его эсхатологический фиктивный двойник, ориентированный имманентно, связываются с аналогичными фигурами высших и низших миров уже не символически и типологически, но напрямую, и поэтому их конфликт и их противоборство наделяются бесконечно важным смыслом и сущностной, принципиальной необратимостью. Этот смысл и эта необратимость проистекают из того, что в эсхатологии сталкиваются не просто полюс и периферия, как это имеет место в обычной онтологии, но два лика самого полюса, и поэтому конфликт не может быть снят посредством относительного решения, как не может быть и отложен, переведен "по циклической спирали" на иной план. Именно необратимостью отличается эсхатологическая мистерия, и этот необратимый характер конца особенно подчеркивает христианская традиция, утверждающая, что после Второго Пришествия Христа во Славе и Страшного Суда — "времени уже не будет". Решительность такого утверждения отнюдь не свидетельствует об узости христианского видения, как бы не могущего разглядеть другого цикла и другого времени, за пределом данного. Напротив, христианство, будучи сугубо эсхатологическим откровением, с предельной жесткостью и строгостью представляет истинную метафизическую картину конца бытия, полностью выводящего трансцендентно ориентированного субъекта за границы циклов, времен и самого метафизического наличия.
Исус Христос в христианском богословии традиционно именуется «Богочеловеком». С точки зрения эсхатологии это абсолютно точно соответствует тайной сотериологической истине, т. к. человек, являющийся субъектом нашего мира и Бог, являющийся субъектом высших миров, в конце времен, в фигуре спасительного посланника, полностью и строго совпадают. С другой стороны, отличительная черта Христа в том, что он пришел "не во имя свое, а во имя Богово", в отличие от антихриста, который приходит как раз "во имя свое", как человеко-человек, князь мира сего. Христос, будучи эсхатологическим полюсом полюсов, истинным Богочеловеком, тем не менее, утверждает нетождество себя себе самому и верность трансцендентному принципу, т. е. свое посланничество. Антихрист, напротив — это полюс сам по себе, без вертикали эсхатологического преодоления, т. е. полнота возможности-могущества, заставляющая считать любую действительность своей причиной лишь чистый произвол возможности — потому антихрист приходит "во имя свое". Но человеко-человек, антихрист, имеет глубинное обоснование и в высших метафизических сферах. Этим обоснованием является эсхатологический апофатизм, т. е. попытка небытия обесценить знание чистого бытия о тайне необходимости, бросив на это знание тень сомнения через сопоставление этого знания как действительного, т. е. катафатического, утвердительного, с непроницаемой бездной своей апофатической отрицательности. Иными словами, небытие-всевозможность хочет представить себя как «бого-бога», как скрытый праисток, отрицающий правомочность самой эсхатологической постановки вопроса, желая спутать догадку чистого бытия о неабсолютности небытия и приписать только самому себе таинство возникновения и исчезновения. Иными словами, это — то же утверждение полярного самотождества, что и в случае с человеко-человеком, только на несравнимо высшем уровне, на уровне предельных метафизических регионов, где тождество Бога и Бога, [74] тем не менее также является метафизическим заблуждением как и в случае с человеко-человеком, антихристом, поскольку ничто в метафизике не равно самому себе, а все есть не что иное, как указание на абсолютно иное. В эсхатологии, в этой уникальной точке метафизики, иное действительно обнаруживается, но не само по себе (что было бы абсурдным), а через знание о нем, милосердно данное чистому бытию, поставившему в абсолютности своей печали страшный и парадоксальный вопрос о причине и цели своего возникновения, уже этим бросая тень сомнения на мнимую самодостаточность произвола небытия в качестве истинного мотива возникновения онтологии.
Эсхатологическому Христу, Богочеловеку, истинному знанию о тайне необходимости, противостоит человеко-человек, но одновременно он же является отражением позиции «бого-бога», а значит, обладает той тайной беззакония, о которой говорит Апокалипсис. Именно такое соотношение фигур в последней битве и делает ее столь фундаментальной на любом бытийном уровне, независимо от его относительности. То, что имеет отношение к концу, — абсолютно, и поэтому китайская традиция утверждает, что "воля Неба" непосредственно и прямо вторгается в судьбу существа только однажды — в момент его смерти, тогда как в остальное время она влияет на него лишь косвенно и опосредованно. Так и в конце миров воля трансцендентного открывается прямо, уравнивая иерархию метафизики и наделяя эсхатологический конфликт даже ее мельчайших частей сверхзначимостью и великим смыслом.