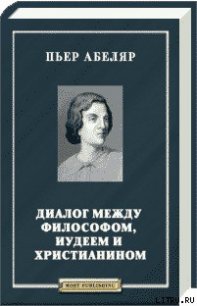Ульмская ночь (философия случая) - Алданов Марк Александрович (книга бесплатный формат TXT) 📗
Л. - Боюсь только, что вы русскую классическую литературу будете выводить из "красоты-добра", а "красоту-добро" - из русской классической литературы, называя это иллюстрацией.
А. - Сейчас упомяну лишь об одной особенности настоящего русского искусства: до большевиков цинизм был ему чужд, и это важно не только с морально-политической точки зрения, но и с точки зрения эстетической. Циник в литературе неизбежно и очень скоро находит победоносного соперника в цинике гораздо более бойком. Мало того, писателям-циникам почему-то всегда приходит желание повыситься в чине и заняться философией, богоборчеством, или хотя бы, например, коммунистической пропагандой. Эренбург стал коммунистом. Были такие же Эренбурги у фашистов. Можно поступить и еще проще, - зачем пропаганда? Генри Миллер, например, долго изумлял мир порнографией или тем, что писал всеми буквами непристойные слова. Казалось бы, продолжать и продолжать? Нет, ему понадобился "вызов Господу Богу", "un coup de pied dans le cul Dieu", - предпочитаю уж цитировать по французскому переводу, да и то ограничусь одной строчкой из многих столь же умных и изящных. Как все они были хороши до своего повышения в чине!.. В настоящей русской литературе ничего сходного никогда не было и нет. Она не "говорила красиво" и в ту далекую пору, когда это было на западе чрезвычайно принято. Чехов сказал: "Ну, какой же Леонид Андреев писатель? Это просто помощник присяжного поверенного, которые все ужасно как любят красиво говорить" (180). Еще гораздо большая заслуга настоящей русской литературы в том, что не удивляла она людей и грязью, - хотя грязь самое легкое из всех "художественных достижений". Большие русские писатели не писали ни как Сартр, ни как Генри Миллер. Они к своему делу и относились совершенно иначе: прицел был более дальний. Толстой разочаровался в искусстве за много лет до "Воскресения". Но... Как вы помните, этот роман печатался в "Ниве", проходя, кстати сказать, через двойную цензуру: и государственную, и цензуру редакции, очень боявшейся повредить репутации "журнала для семейного чтения". Издатель вдобавок очень торопил автора и - правда, весьма почтительно - просил его ускорить присылку очередных частей рукописи. Толстой, забыв о своем "отрицании искусства", ответил: "Пословица говорит: что скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается, а я говорю: скоро дело делается, а не скоро сказка сказывается. И это так и должно быть, потому что дела самые большие разрушаются, а сказки, если они хороши, живут очень долго" (181). Это вам не Миллер и не Сартр.
Л. - Дело не в них одних, а в огромной части новейшей западной литературы (другой же в настоящее время нет: о советской не стоит говорить, она теперь общепризнанное пустое место). Да и вся западная литература, хотим ли мы того или нет, к идеям "красоты-добра" и к Толстому не вернется: у него для нее, при всем его тончайшем до незаметности юморе, недостаточно едкости и иронии. Кажется "Плоды Просвещения" - единственное чисто-ироническое произведение Толстого и во всяком случае единственное с ироническим заглавием. Нет у него ни обнаженной мизантропии, ни беспросветного пессимизма. А наша эпоха именно к этому располагает, как, впрочем, и некоторые прежние. Напомню вам страницу из "Философии Искусства" Тэна: "Зло, принесенное варварами, неописуемо: были истреблены народы, разрушены памятники, опустошены поля, сожжены города, уничтожены, унижены, забыты промышленность, искусства, науки, везде царили страх, невежество, грубость... Земля не возделывалась, съестных припасов не хватало. В 11-ом веке, на семьдесят лет насчитывалось сорок лет голода. Монах Рауль Глабер сообщает, что стало привычным есть человеческое мясо; один мясник был сожжен живьем за то, что выставил его в своей лавке. В общей грязи и нищете были забыты самые обыкновенные правила гигиены, распространились полновластно чума, проказа, эпидемии... Легко угадать чувства, вызванные подобным положением в душах людей. Сначала были подавленность, отвращение от жизни, черная меланхолия. Один писатель того времени говорит: "Мир - бездна злобы и бесстыдства" (182)... Нынешние пессимисты все же несколько преувеличивают, говоря, что никогда в истории не было времени подобного нашему. Я не пессимист, но думаю, что долго, очень долго, не будет в мире той отстоявшейся, прочной, не катастрофической или "акатастрофической" обстановки, которая необходима для Торжества в искусстве принципа "красоты-добра".
А. - Вы, очевидно, забыли, что Тэн написал эту свою картину в объяснение происхождения готики! На смену подавленности, отвращения и меланхолии пришла религиозная экзальтация, - и появилось готическое искусство. Иными словами, появилось одно из замечательнейших выражений красоты-добра в истории. Со всем тем, я отказываюсь что бы то ни было предсказывать и в искусстве. Большой художник подписывал свои картины: "Courbet sans religion et sans idal" в более или менее "акатастрофическое" время. Возможно, что искусство частью и к этому приблизится, однако никак не в циничном варианте.
Л. - Итак, вы в основу своей системы (в кавычках или без кавычек) кладете три идеи: случай, которому дали весьма странное определение, "выборную аксиоматику", которая по меньшей мере весьма спорна, и понятие красоты-добра, которое вы определить отказываетесь и готовы лишь пояснить иллюстрацией. Не могу сказать, чтобы это меня удовлетворяло. Сегодня же, если я вас правильно понял, вы еще весьма увеличили роль "kalos", отметив, что Декарт и в своих чисто-научных трудах исходил отчасти из эстетического начала. Я думал, что он, как все ученые, исходил из опыта и наблюдения.
А. - Разумеется. Но когда оказывался возможным выбор между двумя научными теориями, одинаково пригодными для группировки и объяснения фактов (а такой выбор возможен почти всегда), Декарт отдавал предпочтение той, которая ему казалась более красивой. В этом, конечно, сказывался именно недостаток веры в вечность аксиом и в существование абсолютной научной истины. Сопоставляя космологии Птоломея, Тихо де Браге, Коперника и свою собственную, он не опровергает три первые (между собой не связанные): он говорит, что они приблизительно стоят друг друга; все они не истины, а только гипотезы. Но гипотеза Коперника, по его мнению, проще и яснее, а потому лучше гипотез Птоломея и Тихо; что же касается его собственной, то она имеет еще большее преимущество изящества. При этом он совершенно определенно указывает, что дело идет не об истинном существе явления, а лишь об его гипотетическом выражении (183). Я себе не представляю более замечательного определения целей, задач и методов науки: в этих страницах Декарт заглянул вперед на два столетия, и тут, быть может, тоже один из заветов "Ульмской ночи". Лейбницу, например, или Спинозе такая мысль была бы наверное чужда. Добавлю, что, поскольку дело идет о красоте, как об одном из критериев ценности научных теорий, Декарт имел и предшественников. У Коперника в применении к научным положениям беспрестанно встречаются такие слова, как "nobilis", "divinus", "mirabilissimus" (184). Галилей еще чаще говорит о "specolazione tanto gentile", o "bella meditazione", о "veramente angelica dottrina" (185). В его диалоге Сагредо говорит Сальвиати об одной доктрине, что ему казалось святотатством посягнуть на столь прекрасное научное строение: "Laceгаг si bella struttura" (186). Декарт тут пошел лишь дальше, чем они. Современным физикам (в широком смысле слова) сочетание истины с красотой может показаться ересью; но и у них - уж совершенно бессознательно - то и дело проскальзывают неожиданно эстетические идеи и оценки. Знаменитые опыты Вильсона довольно единодушно прозваны "самыми красивыми опытами в истории науки", и, может быть, эта их сторона даже более важна, чем их чисто-научное значение. Научное творчество в корнях имеет немало общего с творчеством художественным.