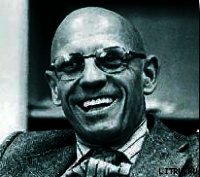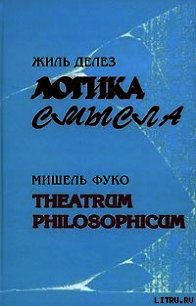Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 2 - Фуко Мишель
М. Ж. Пинту: Разделение на субъект и объект. Согласно тому, что вы проанализировали, есть субъект познания и есть познаваемый объект. На первой лекции вы попытались показать, что именно этого отличия и не существует.
М. Фуко: Не могли бы вы несколько объясниться? Ваше первое утверждение, то есть: у вас сложилось впечатление, что я провожу разделение между субъектом познания и…
М. Ж. Пинту: Мне показалось, что вы рассматриваете себя как субъект, стремящийся познать истину, объективную истину.
М. Фуко: Вы хотите сказать, что я рассматривал себя?
М. Ж. Пинту: Да, да, так я и понял.
М. Фуко: Я рассматривал себя как sujet 8 познания…
М. Ж. Пинту: Я ссылаюсь, главным образом, на первую лекцию, где вы поднимали вопрос о создании субъекта идеологией.
М. Фуко: Нет, вовсе не идеологией. Я и уточнил, что не занимаюсь исследованием идеологий. Возьмем, допустим, то, что я говорил вчера. Читая Бэкона и, во всяком случае, традиционную эмпирическую философию — не только философию эмпиризма, но и философию экспериментальной науки в целом, английской науки наблюдения начала XVI в., а затем французской науки и т. д., — во всей практике науки наблюдения вы обнаруживаете, можно сказать, бесстрастный, лишенный предрассудков субъект, который, будучи противопоставлен внешнему миру, способен видеть происходящее, схватывать его, сопоставлять одно с другим. Как создается такой пустой и бесстрастный субъект, в котором как в фокусе, собирается весь эмпирический мир и который готов стать энциклопедическим субъектом XVIII в.? Является ли этот субъект естественным? Каждый ли человек способен быть субъектом? Надо ли признать, что если это и не было сделано до XV в. и произошло только в XVI в., то только потому, что человеку мешали предрассудки и иллюзорные представления? Не идеологическая ли завеса мешала охватить мир бесстрастным и всеприемлющим взглядом? Такова традиционная интерпретация, и я думаю, что такую же интерпретацию дают марксисты, которые говорят: идеологическая инерция такой-то эпохи препятствовала тому, чтобы… Я им отвечу: нет, мне не кажется, что такой анализ может быть удовлетворительным. В действительности подобный якобы бесстрастный субъект сам по себе является историческим продуктом. Чтобы прийти к тому, что составляет подобную идеальную точку, место, с которого человек должен бросить на мир чистый взгляд наблюдателя, потребовалась целая сеть учреждений и практик. В целом мне представляется, что историческое становление подобной объективности может быть прослежено в судебной практике и, в частности, в практике enquête 9. Я ответил на ваш вопрос?
М. Т. Амарал: Вы намереваетесь развернуть изучение дискурса на основании стратегии?
М. Фуко: Да, да.
М. Т. Амарал: Вы сказали, что это будет одно из исследований, которое вы будете проводить… весьма спонтанно.
М. Фуко: В действительности я говорил, что у меня есть три пересекающихся, хотя и разноплановых проекта. Речь идет, с одной стороны, о чем-то вроде анализа дискурса как стратегии, что несколько напоминает то, чем занимаются англичане, в частности Витгенштейн, Остин, Стросон, Сёрль. На мой взгляд, ограниченность анализов Сёрля, Стросона и других состоит в том, что эти анализы стратегии дискурса, производящиеся за чашкой чая в каком-нибудь салоне Оксфорда, затрагивают лишь стратегические игры, которые, конечно, интересны, однако мне представляются в высшей степени ограниченными. Вопрос заключается в том, есть ли у нас возможность изучать стратегию дискурса в конкретном историческом контексте и в рамках практик несколько иного рода, нежели салонные разговоры. Так, скажем, на основе истории судебных практик, на мой взгляд, можно вывести и проверить гипотезу, спроецировать стратегический анализ дискурса на реальные крупные исторические процессы. Это, впрочем, несколько напоминает то, что в недавних исследованиях делает Делёз с психоаналитическим лечением. Исследуя психоаналитическое лечение не как процесс раскрытия сокрытого, но, напротив, как стратегическую игру между двумя беседующими индивидами, когда один молчит, однако его стратегическое молчание, по меньшей мере, настолько же значимо, как и разговор, он стремится увидеть, каким образом в процессе психоаналитического лечения осуществляется стратегия дискурса. Как таковые три проекта, о которых я говорил, несопоставимы, однако речь идет о том, чтобы применить рабочую гипотезу в некоторой, обладающей собственной историей, области.
А. Р. де Сантп'Анна: Ввиду занимаемого вами положения стратега будет ли уместным сопоставить ваши взгляды с проблематикой pharmakon 10 и поставить вас в один ряд с софистами (на сторону правдоподобия), а не с философами (на сторону речей об истине)?
М. Фуко: Да, здесь я полностью на стороне софистов. К тому же темой моего первого года в Коллеж де Франс были софисты. Как мне представляется, софисты имеют очень большое значение. Поскольку они представляют теорию и практику сугубо стратегической речи: мы выстраиваем разговор и что-то обсуждаем не для того, чтобы прийти к истине, но для того, чтобы выиграть. Такова игра: кто проиграет, кто выиграет? Поэтому борьба Сократа с софистами мне кажется очень важной. С точки зрения Сократа, говорить стоит, если хочешь сказать правду. Во-вторых, если для софистов говорить и спорить означало стремиться к победе любой ценой, даже ценой самого грубого обмана, то это потому, что для них речевая практика была неотделима от проявлений власти. Говорить — значит исполнять власть, говорить — это рисковать властью, говорить — это иметь возможность выиграть или всё потерять. Есть также очень интересная деталь, которую сократизм и платонизм обходят стороной: речь, логос, начиная с Сократа, в итоге уже не есть осуществление власти; это логос, который есть лишь проявление памяти. Переход от власти к памяти имеет весьма большое значение. В-третьих, мне представляется столь же важным, что для софистов идея логоса и, в итоге, речи обладает материальным существованием. Это значит, что коль скоро в софистических играх что-то сказано, то оно сказано. В играх между софистами обсуждается следующее: вы сказали то-то; вы это сказали и вы останетесь с этим связанными самим фактом того, что вы это сказали. Вам не избавиться от этого. Так происходит не из-за принципа противоречия, о соблюдении которого софисты мало заботились, но из-за того, что в данное мгновение сказанное присутствует здесь, материально. Оно здесь присутствует физически, и вы ничего не можете с этим поделать. Впрочем, они много раз использовали материальность речи, поскольку были первыми, кто сыграл на этом противоречии, на этих парадоксах, которыми затем наслаждались историки. Именно они впервые сказали: разве, когда я говорю слово «повозка», повозка в действительности не проходит через мои уста? Если же повозка не может пройти через мои уста, то я не могу произнести слово «повозка». В итоге они обыграли двоякую материальность: материальность того, о чем мы говорим, и материальность самого слова. На самом деле для них логос представлял событие, произошедшее раз и навсегда, когда сражение уже начато, жребий брошен и уже ничего нельзя поделать. Фраза сказана. После этого она обретает материальность, она получает определенный отклик; и к тому же можно видеть как историки, исходя из этого разрабатывали проблематику «телесного», «бестелесного», относительно «нейтрального». Но ведь также начиная с этого времени Платонов логос становится все более нематериальным, еще более нематериальным, чем разум, человеческий разум. Следовательно, материальность речи, фактичность речи, взаимосвязь между речью и властью — все это представляется мне ядром крайне занимательных идей, которые платонизм и сократизм полностью заместили определенной концепцией познания.