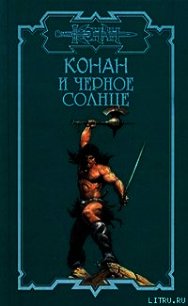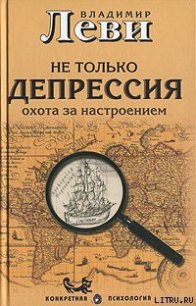Черное солнце. Депрессия и меланхолия - Кристева Юлия (книги без сокращений txt) 📗
Меланхолия лежит в основании того «кризиса ценностей», который сотрясает XIX век и выражается в распространении эзотерики. Католическое наследие оказывается под вопросом, однако его элементы, соотносящиеся с кризисными психическими состояниями, не оставлены без внимания — они включаются в спиритуалистский полиморфный и многозначный синкретизм. Глагол воспринимается уже не столько в качестве воплощения и эйфории, сколько как поиск страсти, остающейся безымянной или тайной, или же как присутствие абсолютного смысла, представляющегося тотальностью значений — неуловимой и забывающей о нас. Тогда переживается подлинный меланхолический опыт символических ресурсов человека, связанный с религиозным и политическим кризисом, запущенным Революцией. Вальтер Беньямин подчеркивал наличие меланхолического субстрата у этого воображаемого, лишенного как классической, так и католической стабильности и в то же время стремящегося придать себе новый смысл (пока мы говорим, пока художники творят), который, по существу, остается проваленным, разорванным чернотой и иронией Принца сумерек (пока мы живем как сироты, пусть и творцы — творцы, которые, однако, оставлены…).
Так или иначе, «El Desdichado», как и вся поэзия и поэтическая проза Нерваля, пытается прийти к потрясающему воплощению этого разнузданного означивания, которое бросается и перепрыгивает в многозначность эзотерических учений. Соглашаясь с рассеянием смысла — как воспроизведением в тексте раздробленной идентичности — темы сонета выписывают подлинную археологию аффективного траура и эротического испытания, которые преодолеваются благодаря поглощению архаического языком поэта. В то же самое время это поглощение осуществляется и посредством огласовки и мелодизации самих знаков, приближающихся таким образом к смыслу потерянного тела. Так изнутри этого кризиса ценностей поэтическое письмо словно бы изображает воскресение. «Я два раза победителем пересек Ахерон…» Третьего раза не будет.
Сублимация — это могущественный союзник Desdichado, но лишь при том условии, что он может получить и принять речь кого-то другого. Но другого не было на свидании с тем, кто решил воссоединиться — на этот раз без лиры, одинокий странник, блуждающий под ночными фонарями, — с «вздохами святой и криками феи».
Глава 7. Достоевский: письмо страдания и прощения
В тревожном универсуме Достоевского (1821–1881), несомненно, властвует скорее эпилепсия, чем меланхолия в клиническом смысле этого термина [142]. Хотя Гиппократ отождествлял два этих слова, а Аристотель различал их и сравнивал, современная наука считает явления, обозначаемые ими, совершенно различными. Так или иначе в текстах Достоевского можно встретить упоминания о подавленности, которая предшествует описываемому писателем припадку или, что важнее, следует за ним, так же как и превознесение страдания, которое, не имея прямого и явного отношения к эпилепсии, прослеживается во всем его творчестве в качестве существенной черты разрабатываемой автором антропологии.
Любопытным образом стремление Достоевского указать на существование изначального или, по крайней мере, рано развивающегося страдания, возникающего при самых первых проблесках сознания, напоминает о фрейдовском тезисе об исходном «влечении к смерти», являющемся носителем желания, и о «первичном мазохизме» [143]. И если у Мелани Кляйн проекция чаще всего предшествует интроекции, агрессия идет впереди страдания, а параноидально-шизоидная позиция поддерживает депрессивную позицию, Фрейд обращает внимание на то, что можно было бы назвать нулевой степенью психической жизни, в которой неэротизированное страдание («первичный мазохизм») оказывается исходным психическим вписыванием разрыва (памятью о прыжке с уровня неорганической материи к органической материи; аффектом разделения тела и экосистемы, матери и ребенка и т. д., но также смертоносным воздействием неусыпного тиранического Сверх-Я).
Кажется, что Достоевскому такая точка зрения очень близка. Страдание он рассматривает в качестве раннего и первичного аффекта, являющегося реакцией на некую травму и при этом в каком-то отношении до-объектного, то есть аффекта, для которого нельзя выделить действующей причины, отделимой от субъекта и потому способной оттянуть вовне психические энергии и вписывания, представления и акты. Словно бы под давлением Сверх-Я, которое также начинает действовать рано, напоминая меланхолическое Сверх-Я, которое Фрейд считает «культурой влечения к смерти», влечения героев Достоевского обращаются на свое собственное пространство. Вместо того чтобы стать эротическими влечениями, они вписываются в качестве страдательного настроения. Страдание у Достоевского учреждается не внутри и не снаружи, а на границе, на пороге, который отделяет Я и другого, то есть до возникновения самого этого различия.
Биографы отмечают, что Достоевский любил навещать людей, склонных к грусти и тоске. Он взращивал ее в себе и превозносил ее как в своих текстах, так и в письмах.
Процитируем письмо Майкову от 27 мая 1869 года, написанное во Флоренции: «Главное — тоска, а если говорить и разъяснять больше, то слишком уже много надобно говорить. Но тоска такая, что если б я был один, то, может быть, заболел бы с тоски… Вообще тоска страшная, а пуще — от Европы; на всё здесь смотрю, как зверь. Решил во что бы то ни стало воротиться к будущей весне в Петербург…» [144]
Эпилептический припадок и письмо в равной мере оказывается привилегированными местами пароксизмов грусти, которые обращаются в мистическое вневременноеликование. Гак, в «Записных книжках» к «Бесам» (роман вышел в свет в 1873 году) Достоевский пишет: «Припадок в 6 часов утра (день и почти час казни Тропмана). Я его не слыхал, проснулся в 9-м часу, с сознанием припадка. Голова болела, тело разбито. N. В. Вообще следствие припадков, то есть нервность, короткость памяти, усиленное и туманное, как бы созерцательное состояние-продолжаются теперь дольше, чем в прежние годы. Прежде проходило в три дня, а теперь разве в шесть дней. Особенно по вечерам, при свечах, беспредметная ипохондрическая грусть и как бы красный, кровавый оттенок (не цвет) на всем…» [145]. Или: «нервный смех и мистическая грусть» — повторяет он, неявно отсылая к acedia средневековых монахов. Еще пример: «Чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать!»
Страдание представляется здесь неким «избытком», силой, наслаждением. «Черная точка» меланхолии Нерваля уступает страстному потоку, если угодно — даже истерическому аффекту, разлив которого сносит безмятежные знаки и умиротворенные композиции «монологической» литературы. Он наделяет текст Достоевского головокружительной полифонией и в качестве предельной истины человека у Достоевского полагает бунтующую плоть, которая наслаждается тем, что не подчиняется Глаголу. Наслаждение страданием, в котором «никакой холодности и разочарованности, ничего пущенного в ход Байроном» и в которой есть «непомерная и ненасытимая жажда наслаждений. Жажда жизни неутолимая», включающая и «наслаждения кражей, наслаждения разбоем, наслаждения самоубийством». Эта экзальтация настроения, в которой страдание может обратиться в непомерное ликование, великолепно описывается Кирилловым, который связывает ее с мгновениями, предшествующими самоубийству или припадку: «Есть секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. <…> Это… это не умиление <…> Вы не то что любите, о — тут выше любви! Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более пяти секунд — то душа не выдержит и должна исчезнуть. <…> Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически.