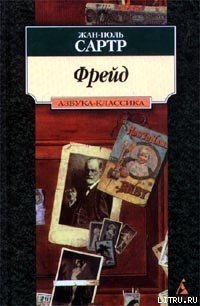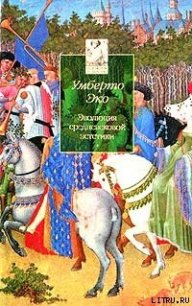Приготовительная школа эстетики - Рихтер Жан-Поль (читать книги бесплатно полные версии .TXT) 📗
Ну, а в чем же состоит идеально-возвышенное? Дают ответ Кант и после него Шиллер {1}: в том бесконечном, какое отчаиваются дать нам чувства и фантазия, а разум создает и утверждает. Однако возвышенное, например море, высокие горы, уже потому не непостижимы для чувств, что ведь чувства охватывают даже то, в чем только и обитает это возвышенное; это же правильно сказать и о фантазии, спешащей вслед чувствам на своих крыльях: фантазия в своей бесконечной пустыне и в бесконечной пустоте эфира уже успела построить бесконечное пространство, в котором можно возвести и возвышенную пирамиду. Далее, возвышенное, конечно, всегда связано с чувственным знаком (в нас или вне нас), но такой знак нередко вовсе не требует от фантазии и чувств затраты сил. Случай, когда кроткий знак возвышеннее величественного: в известной поэтической книге Востока пророк ожидает увидеть знак божества, проходящего мимо, но бог приходит не в огне, не в громе, не в буре, а в теплом, тихом дуновении {2}. Возвышенное, что присуще действиям, эстетически находится в обратном отношении к весомости чувственного знака; самое малое — наиболее возвышенно; тогда в движении бровей Юпитера больше возвышенного, чем в движении его десницы или в движении его самого.
Далее, Кант делит возвышенное на математическое и на динамическое, или, как выражает это Шиллер, на превосходящее нашу силу постижения и на угрожающее нашей жизненной силе. Можно сказать короче: количественное и качественное, или внешнее и внутреннее. Но глаз не может созерцать ничего, кроме количественного [132]; лишь вывод на основании опыта, а не созерцание может превратить в возвышенное динамическое пропасть, бурное море, летящий камень. Но как же созерцаем мы все такое? Акустически; ухо — непосредственный посланник силы и страха, вспомним гром, грохот, рев морей, туч, водопадов, львов и т. д. Новоявившийся на свет человек, не накопивший еще опыта, задрожит, внимая такому величию, а любая величина зримая только возвысит и наполнит его душу.
Если мне позволено определить возвышенное как прикладную бесконечность, то получится пятикратное деление — или трехкратное в отношении глаза (возвышенное математическое, или оптическое), уха (динамическое, или акустическое); изнутри фантазия вновь должна соотносить бесконечное со своей чувственностью количественной и качественной, как неизмеримость [133] и как божество, — и тогда остается еще третье, или пятое, возвышенное, которое находится в обратной пропорции с чувственным внешним или внутренним и знаком, — возвышенное нравственное, или деятельное.
Как же применить теперь бесконечное именно к чувственному предмету, если, как я доказал, такой предмет уже размаха крыл чувства и фантазии? Лишь природа, а не промежуточная идея опосредует чудовищный скачок от чувственного как знака к нечувственному как обозначаемому, — скачок, который каждую минуту должны совершать патогномика и физиогномика; так, отнюдь нет формулы, которая, например, объединила бы мимическое выражение ненависти и ее самое или даже слово и идею. Однако должны отыскаться условия, — когда именно тот или иной чувственный предмет становится духовным знаком, так что ему отдают преимущество перед другими предметами. Для уха одновременно нужны и экстенсивность и интенсивность; звук грома должен быть звуком долгим. Поскольку мы, созерцая, знаем только свою силу и поскольку голос — это, так сказать, тайное слово жизни, то становится более понятно, почему именно слух обозначает возвышенное динамическое. Звуки нашего голоса, возможно, мгновенно сравниваются со звуками чужих голосов, — такое нельзя заранее исключить. Даже тишина может быть возвышенной: беззвучное и неподвижное парение хищной птицы в небесной выси, затишье перед бурей на море, замирание после удара молнии — перед раскатами грома.
Возвышенное оптическое основано не на интенсивной напряженности — ибо нет ничего возвышенного, когда яркий свет лишает зрения; в ночи и в Солнце тоже не было бы ничего возвышенного, не будь неба и всего окружения, — а на напряженности экстенсивной, причем только одноцветной [134]. Безграничная возделанная долина уступит седому тихому морю, хотя первая со своей оптической интенсивностью гораздо больше света доставляет глазу и хотя второе точно так же теряется в тучах на горизонте. Так, у пирамиды можно отнять половину ее величины, нанеся на ее поверхность огромные пятна краски, — не слишком близко друг к другу и достаточно большие, ибо иначе они сольются для пораженного глаза в одно большое пятно. Но почему так? Ведь пестрые краски должны были бы расцветить ее ярче и светлее и, следовательно, увеличить в размерах, несмотря на прежнее удаление? Вот почему: каждая новая краска — это начало нового предмета, если только не говорить о больших удалениях и о ночи, когда все цвета неверны и когда они неясно переходят друг в друга. Напротив, стоит ту же пирамиду усеять маленькими огнями, как купол святого Петра, — и она увеличится, потому что эти огни будут, слагаясь в одну линию, продолжать ночью [135] один и тот же предмет, а не начинать новый. Поэтому звезды оптически возвышенны благодаря небу, а не небо благодаря им. Остается последний вопрос: почему же становится образом бесконечности лишь предмет, который на большом протяжении остается одноцветным?
Отвечу так: благодаря границе, то есть двум цветам; возвышенно — ограниченное, не то, что его ограничивает; глаз повторяет все один и тот же цвет, пока не начинает кружиться голова, и это вечное повторение становится образом бесконечного; возвышенна не вершина пирамиды и не ее середина, но путь, пройденный взглядом. Но как раз затем, чтобы знать, что есть здесь одно и то же, нужно, чтобы у меня было разное — для противопоставления; не будь разного, не было бы цели, не было бы дали — и не было бы величины и величия; поэтому для зажмуренных глаз нет возвышенной ночи, но она возвышенна для глаз открытых, — ибо тогда я начинаю с освещенного места или с себя самого и отправляюсь в бесконечный путь.
Отдельные вопросы я отвергаю, потому что задавать и решать задачи можно до бесконечности; так, в исследовании нуждается тот случай, когда, объединяя свои силы, совпадают различные виды возвышенного, например, молния и гром или водопад, возвышенный математически и динамически, а также бурное море. И еще предмет для пространного исследования: как соотносится прикладное бесконечное в природе с бесконечным в искусстве, поскольку и здесь и там фантазия связана с разумом. Точно так же многое можно было бы возразить против кантовской «боли при восприятии возвышенного», одно в особенности — что тогда наивеличайшее возвышенное должно было бы причинять величайшую боль. именно бог; можно было бы заметить и против другого кантовского положения, будто все незначительно рядом с возвышенным, — что ведь есть и ступени возвышенного, но только не как бесконечного, а как прикладного; так, звездная ночь, что бдит над спящим океаном, не придает душе тех мощных крыльев, что грозовое небо над бурным морем; и бог возвышенней горы.
Когда составитель программ, желая проанализировать смешное, предпосылает смешному возвышенное, чтобы от возвышенного подобраться к смешному и его анализу, теоретический ход легко может обернуться практическим.
Бесконечно-великому, пробуждающему восхищение, необходимо противостоит такое же малое, — оно вызывает противоположное чувство.
Но в царстве морали нет малого; ибо нравственность, направленная вовнутрь, вызывает свое и чужое уважение, ее отсутствие вызывает презрение; нравственность, направленная вовне, вызывает любовь, а отсутствие ее — ненависть; чтобы презирать смешное, оно слишком легковесно, а чтобы ненавидеть — слишком хорошо. И потому для смешного остается лишь царство рассудка, а из всей этого царства одна область — безрассудное. Но чтобы рассудок пробудил чувство, его нужно чувственно созерцать, в действии или в состоянии, а это возможно лишь тогда, когда действие, будучи ложным средством, избранным рассудком, представляет и обличает намерение рассудка или когда ситуация, будучи обратной ему, представляет и обличает, мнение рассудка о ней.