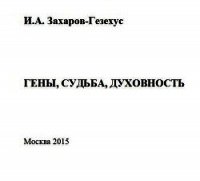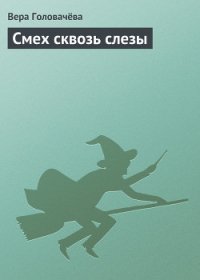Слёзы мира и еврейская духовность (философская месса) - Грузман Генрих Густавович (бесплатная регистрация книга txt) 📗
Хотя творение Бердяева о философии истории нельзя считать завершенным и оно оформлено в сугубо теоретическом плане, Бердяева ни в коем случае негоже числить умозрительным теоретиком, оторванным от актуалий действительного мира. С наибольшей силой актуальность бердяевских новаций сказалась в разительной критике традиционного способа исторического фактологического познания, который философ называет «экономическим», «историческим материализмом», «марксистским пониманием». Бердяев утверждает: «История, как величайшая духовная реальность, не есть данная нам эмпирия, голый фактический материал. В таком виде история не существует и ее опознать нельзя». Для истинного исторического познания необходима душа и концепт «действующей души» есть генеральное понятие бердяевской доктрины, на базе которой формируется новаторская историческая методология, хотя сочинение Бердяева по жанру не историческое, а философское. По заключению Бердяева: «В концепции экономического материализма исторический процесс оказывается окончательно лишенным души», а потому: «Тот процесс, который производит над историей исторический материализм, неизбежно приводит к распылению исторической реальности, превращению ее в сыпучий песок». И окончательный вердикт, данный Бердяевым от лица своего метода традиционной фактологии, в частности марксистской разновидности, звучит как суровый приговор: «Я знаю только одно направление в этой области, которое до конца и последовательно разлагает и умерщвляет все исторические святыни и исторические предания, без компромиссов, совершенно последовательно, — это направление марксистского понимания истории» (1990, с. с. 16, 10, 12).
Таким образом, в недрах русской духовной школы наличествует методическое средство, выросшее из исторических глубин еврейского сознания, а потому априорно перспективное для еврейского вопроса с познавательной стороны. Становится важным и необходимым оценить творческое усилие русского писателя А. И. Солженицына, взявшего русское еврейство своей темой, в показаниях и критериях бердяевского радикализма. Основополагающим из числа этих показаний кажется утверждение русского философа об «особых, мистических основах исторической судьбы еврейского народа». Но Солженицын не историк и не философ и он не знает, по крайней мере, не упоминает о Н. А. Бердяеве и его исторической новации, а как стихийный духовник, то бишь мыслитель, ставящий духовное выше материального, инстинктивно склоняется к бердяевскому пониманию. У Солженицына, хоть и не так определенно, как у первоавтора, эта бердяевская мысль также присутствует и занимает достаточно много места в сочинении, — по Солженицыну: «… еврейский народ и активный субъект истории и страдательный объект ее, а нередко выполнял, даже и неосознанно, крупные задачи, не вязанные Историей» (2001, ч. 1, с. 6). Такова увертюра солженицынской симфонии и поучительно, что она дана в историческомрегистре. Следовательно, исторически Солженицын находится в поле методологии Бердяева, а потому для него несущественны фактологические претензии всех «историков широкого профиля» вместе взятых. Но в контексте этой методологии вскрывается и та особенность Солженицына-исследователя, что роковым образом сказывается на результативных возможностях его экспедиции в еврейский мир.
В свой творческий замысел Солженицын вкладывает намерение «очистить» русско-еврейскую историю от «горечи прошлого». Внешнее благородство цели, однако, не поддерживается с методологической стороны по Бердяеву, и этим определяется шаткость благого намерения русского писателя. В силу методологических требований Бердяева благое намерение по «очищению» исторического материала как выражение «действующей души» Солженицына должно быть поставлено во главу угла, должно быть первоисточником, но только благое намерение как per se, как именно то бердяевское "мое", в какое Солженицыну, как исследователю, предназначено поместить историю, и тогда из благого намерения вырастет не очищение от горечи прошлого, а истинное понимание этой горечи. Но Солженицын ставит свое благое намерение как конечную задачу на уровне целевой установки и намерен «посильно разглядеть для будущего взаимодоступные и добрые пути русско-еврейских отношений», а потому в своей рефлексии он не достигает русской глубины Бердяева. Благое намерение представляется Солженицыным не как причина, а как следствие «очищения» от неприятных моментов истории, и в этом заключено упущениеСолженицына, но не как писателя и публициста, а как исследователя исторического процесса. Но даже в этой, не до конца русской, позиции Солженицын на порядок превышает аналитический уровень своих израильских оппонентов, ибо в том аспекте, в каком русский писатель взялся за еврейский вопрос, а точнее и правильнее сказать, в той плоскости, в какой им была поставлена проблема русского еврейства ("Я призываю обе стороны — и русскую, и еврейскую — к терпеливому взаимопониманию… "), Солженицыну не надо быть ни семитом, ни антисемитом, но только по-бердяевски мыслящей личностью, а это означает, что порядок мышления Солженицына лишь опосредованным образом связан с коллизией семит-антисемит. Потому-то для показа «юдофобства» Солженицына критикам приходится прибегать к угасшей методике исторического исследования, к непотребным аналитическим приемам, а, главное, к нарушению сугубо еврейских принципов.
Основное достоинство бердяевской исторической концепции в рамках ведущихся рассуждений о русском еврействе полагается в том, что философ, выводя содержание исторического процесса из возможностей еврейского сознания, создал особый метод познания для еврейской, по духу небесной, истории. А это значит, что вне еврейского метода, то есть средства, где, по Бердяеву, демиургом истории выступает действующая душа (историческое лицо, личность, индивидуальность) в противовес материалистическому пониманию истории с типичным фактопреклонением, где гегемоном истории поставлены коллективные монстры — народ, общество, классы, не возможно рассмотрение никакого еврейского предмета в исторической проекции. В этом заключается принципиальное методологическое расхождение между сочинением А. И. Солженицына и его оппоненцией: если при изучении еврейского вопроса русский писатель не полностью освоил еврейский метод (по Бердяеву), то израильские и им сопутствующие аналитики при показе еврейского предмета целиком и полностью изгнали еврейский метод из поля еврейского вопроса; если Солженицын допускает при этом не более как упущение в своем творческом подходе, то еврейские критики, мнящие себя профессиональными историками (А. Черняк, С. Резник), совершают не менее чем служебное преступление.
Когнитивные возможности еврейского метода, понятие о котором дефинитивно отсутствует у Бердяева, но какое самопроизвольно следует из творческого проницания философом исторической глубины еврейского сознания, однако, выходят далеко за пределы сугубо еврейской тематики. Речь идет о нетривиальной, критической стороне бердяевского исторического гнозиса, трактующей о глубочайшей стагнации современной цивилизации во всех ее основополаганиях — кризисе европейского гуманизма или либерализма, ложности учения прогрессивной эволюции, крушения принципов современной истории, — если угодно, речь идет о русском адеквате «заката Европы» О. Шпенглера. Бердяев утверждает: «Мы живем во времена грандиозного исторического перелома. Началась какая-то новая историческая эпоха. Весь темп исторического развития существенно меняется. Он не таков, каким был до начала мировой войны и последовавших за мировой войной русской и европейской революций, — он существенно иной. И темп этот не может быть назван иначе, как катастрофическим». Критический финал земной истории, какой уготован человечеству материалистическим пониманием истории (историческим, хронологическим, фактологическим материализмом), Бердяеву удается проиллюстрировать на примере человеческой судьбы — наибольшей святыни русской духовной школы — в условиях высшего достижения идеологии фактомании — прогрессивной эволюции мира. Бердяев пишет: «Прогресс превращает каждое человеческое поколение, каждое лицо человеческое, каждую эпоху истории в средство и орудие для окончательной цели — совершенства, могущества и блаженства грядущего человечества, в котором никто из нас не будет иметь удела… Все поколения являются лишь средством для осуществления этого счастливого поколения избранников, которое должно явиться в каком-то неведомом и чуждом для нас грядущем… Это учение заведомо и сознательно утверждает, что для огромной массы, бесконечной массы человеческих поколений и для бесконечного ряда времен и эпох существует только смерть и могила» (1990, с. с. 4, 147).