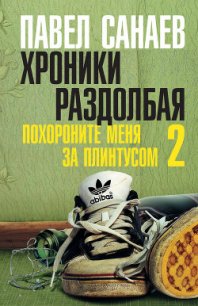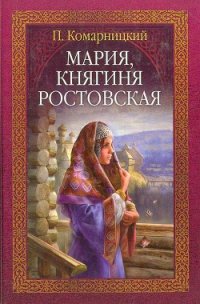Павел. Августин - Мережковский Дмитрий Сергеевич (книги онлайн полные версии .txt) 📗
Град Божий есть Церковь, но только отчасти, потому что Церковь еще не соединена с Градом Божиим окончательно, а только смешана с ним. «Град Земной — Град диавола», Civitas terrestris — Civitas diaboli, есть Государство, Римская Империя, по преимуществу, но только отчасти то же, потому что Государство еще не соединено окончательно с «Градом диавола», а только смешано с ним.
Жители Града Небесного «пользуются» и Градом Земным, но не служат ему и не остаются в нем, а только проходят через него. Вечного мира между двумя Градами нет и быть не может; может быть только «перемирие», «соглашение», concordia, до последней между ними борьбы. [231]
Законы «Града Божия», если бы признаны были в Земном Граде, государстве, — утвердили бы его и возвеличили лучше всех законов Нумовых и Брутовых. [232] Это значит, с каждой точки Всемирной Истории может начаться путь к царству Божию; каждый день может приблизить людей к исполнению молитвы Господней: воля Твоя да будет и на земле, как на небе.
Промыслом, а не случаем установлена всемирно-историческая «связь-согласие», concordia, двух Римов, языческого и христианского, [233] — учит Августин. Мир всего мира, нужный для шествия человечества к царству Божию, есть «Римский мир», pax Romana. Хищные орлы легионов открывают путь кроткой Голубке Христовой — Церкви.
Бывший «Царь Иудейский», Rex ludaeorum, Иисус Распятый, — будущий «Император Божественный», Divus Imperator, шествующий в триумфальной колеснице в Град Божий. «Церковь облек оружием власти оный Император веры», — Господь Иисус. [234] Все это очень опасно и, во всяком случае, вовсе не так геометрически ясно, просто и несомненно, как думает иногда Августин; в этом убедились мы, увы, по страшному, но необходимому опыту.
Как бы то ни было, вся душа средних веков, Теократия, — уже в «Граде Божием». Можно сказать, что Августин спас христианскую Европу от смерти: только что старая душа от нее отлетела, он вдохнул в нее новую. «Град Божий» будет любимой книгой Карла Великого, основателя Священной Римской империи. [235] В самой черной ночи варварства путь христианского Запада будет озаряться, как вспыхивающей в тучах зарницей, огненным видением «Града».
«Первым синтезом всемирной истории» — назовет в переводе на наш язык книгу Августина один из свободнейших учителей Церкви, в конце средних веков, предтеча Реформации, Жерсон. [236]
«В некоторых частях своей философии Августин (в „Граде Божием“) ближе к нам, чем Гегель и Шопенгауэр», — скажет ученый XIX века; [237] можно бы прибавить: ближе, чем Нитцше и Бергсон. Это значит, по слову Гарнака, «первый человек наших дней— Августин».
В «Исповеди» — вечный спутник каждого христианина, а в «Граде Божием», — всего христианского человечества. Два великих открытия сделаны здесь Августином, во всяком случае: найдены два величайших новых понятия — Всемирная История и Человечество.
Сказанное впервые голосами всех веков и народов, как бы семью громами Апокалипсиса: «Adveniat regnum tuum, да приидет Царствие Твое», — вот что такое «Град Божий». [238]
Все исполинское зодчество «града» напоминает кристаллической ясностью и стройностью систему Коперника и «Божественную комедию» Данте. Трудно поверить, что это величайшее и стройнейшее из всех когда-либо на земле воздвигнутых зданий (кроме, может быть, «Суммы» Аквината) построено на непрекращающемся землетрясении; что этот Божественный космос зиждется на человеческом хаосе, между двумя нашествиями варваров, — первым на Европу, вторым на Африку — между падением Рима и падением Гиппона, где Августин во время осады и умер, окончив «Град Божий».
И еще труднее поверить, что космос этот зиждется не только на внешнем, побеждающем, но и на внутреннем, в самом Августине, побежденном хаосе. «Град Божий» пишется в те самые годы, когда ведется последний смертный бой Августина, — не оконченный и, может быть, нескончаемый спор его с ересиархом Пелагием о существе Зла — начале хаоса: «откуда Зло», от человека или от Бога? В самой возможности такого вопроса для Августина: «не от Бога ли зло?» — уже начало хаоса — ужаса.
«В скорби и горечи несказанной провел он последние дни свои», — вспоминает старый друг и ученик его Поссидий.
Вечный вопрос — мука всей жизни его: «По изволению или попущению Божию, зло? Deo jubente aut sinente malum?» — никогда еще не был поставлен с таким неотразимым ужасом в мире и никогда еще не подымался с такой безответной мукою в человеческом сердце, как в эти дни воплощенного Зла, торжествующего во Всемирной Истории, хаоса — Нашествия варваров. [239]
Чтобы это понять, вспомним то, что не было еще видно тогда, но что нам теперь уже видно отчасти, — родившуюся тогда, в начале V века, растущую непрерывно, в течение пятнадцати веков, во всех маленьких племенных войнах, сравнительно «детских играх» и выросшую, наконец, в начале XX века Всемирную Войну; вспомним, что в тогдашнем первом, маленьком Нашествии варваров внешних — тоже сравнительно «детской игре», — уже родилось то второе, великое «Нашествие варваров» внутренних, которые угрожают нам сейчас.
«Сделай, Господи, чтобы меня учитель не бил!» — эту неуслышанную молитву десятилетнего мальчика Аврелия вспомнил ли семидесятилетний старец Августин после одной из стольких, должно быть, неуслышанных молитв об отвращении бича Божия уже не от него самого, а от того, что ему было дороже себя, — от Града Божия?
Люди, жалкие зодчие, подобны муравьям, которые вздумали бы строить муравейник на большой дороге, где рано или поздно колесо телеги или ослиное копыто раздавит их кочку; и сызнова начнут ее строить, и снова будет раздавлена, — и так без конца.
На гору вскатывается камень — то, что Августин называет «Градом Божиим», а мы называем «прогрессом», «культурой», «цивилизацией», — и скатывается камень с горы — и опять подымается, и так без конца; жалкий Сизифов труд человечества.
Только что утренняя лужица затянется тонким ледком, — дочеловеческий хаос — человеческим космосом, как происходит новый взрыв хаоса, и рушится все, и опять затягивается лужица ледком; и так без конца.
Кто-то как будто приоткрывает божественный Смысл в человеческой бессмыслице, но для того только, чтобы надругаться тотчас же над Смыслом в еще злейшей бессмыслице, так что кажется иногда: лучше бы уж никакого смысла не было; легче было бы человеку оправдать Бога.
Этого всего не мог, конечно, думать Августин, так как мы думаем сейчас; но очень вероятно, что, думая около этого, он был в той же агонии мысли, как мы сейчас; тем-то он и близок нам — ближе всех Святых в этом, кроме Павла.
Opus imperfectum, «Книга неконченная», против Юлиана Энкланского, ученика Пелагия, — книга Августина, предсмертная. [240] Можно бы сказать, что и вся его жизнь — «неконченная» — бесконечная книга, все об одном и том же. «Что такое зло? quid sit malum?» — с этим вопросом прожил он всю жизнь; с ним и умер, пред лицом Божиим предстал, и там только, может быть, услышал здесь, на земле, невозможный ответ.
Кажется, спор с Пелагием и с учеником его, Юлианом, о существе Зла — «первородном грехе» — был для Августина только тем случайным (это в жизни его последний «случай»), легким, но по больному месту роковым ушибом, который бывает иногда началом, но не причиной смерти.