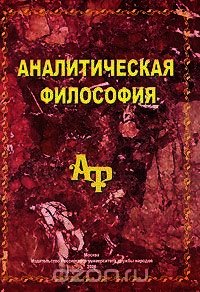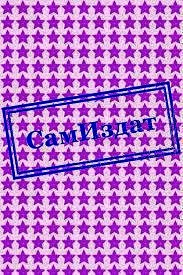Достоевский и Ницше - Шестов Лев Исаакович (книги онлайн полные версии TXT) 📗
Вы видите, что в «вечном возвращении» существенно не определяемое слово, а определяющее, т. е. не возвращение, а вечность. Как ни глубока скорбь, она должна пройти и уступить место непреходящей радости. И день (т. е. Милль и Кант) не умеет судить о глубине мира. Не в этом ли тайна, о которой шептался Заратустра с жизнью, и не это ли ему открылось, когда его впервые осенила мысль о вечном возвращении «на высоте 6000 футов над уровнем моря и еще выше над всеми человеческими помыслами»? Но оставим догадки о невысказанных тайнах Ницше: если он молчал, то у него были на то свои основания; есть вещи, о которых можно думать, но нельзя говорить иначе, чем символами и намеками. По крайней мере, нельзя говорить теперь, пока миллевское предположение о действии без причины принимается нами только для отдаленных планет или еще более отдаленного будущего, пока о мире судит день. В «Also sprach Zarathustra» мы встречаемся с целым рядом попыток одним усилием ума вырваться из власти современных теорий. Я укажу, например, на речь Заратустры, заключающую собой 2-ю часть этой книги (die stillste Stunde), или из 3-й части на der Genesende, die sieben Siegel и т. д. Но, очевидно, и сам Ницше еще далеко не свыкся со своей новой полуночной действительностью. Наследник своих предков, он может лишь на мгновения покидать привычную атмосферу позитивизма, и для него жизнь за пределами того, что называется познаваемым миром, как ни влечет его к ней, не есть еще «нормальная» жизнь. Каждый раз, как из-под его ног уходит почва – его охватывает мистический ужас; он сам не знает, что с ним происходит: видит ли он новую действительность или ему только грезятся страшные сны. Пред ним поэтому постоянная трагическая альтернатива: с одной стороны положительная, но опустошенная, бессодержательная действительность, с другой стороны – новая жизнь, манящая, обещающая, но пугающая, точно привидение. Неудивительно, что он постоянно колеблется в выборе пути и то страшными заклинаниями вызывает свою «последнюю мысль», то впадает в полное безразличие, почти в отупение, чтобы отдохнуть от чрезмерного душевного напряжения. В современной литературе вы не встретите ни одного писателя, который жил бы такими быстро изменчивыми настроениями, какие вы наблюдаете у Ницше: в одну и ту же почти минуту вы можете застать его на двух совершенно противоположных полюсах человеческой мысли…
Проф. Риль справедливо заметил, что Ницше не годится в учителя. Его сочинения не дают и не могут дать твердых и неизменных правил для руководства ученикам. Он сам постоянно экспериментирует, делает опыты над собой. Ему иногда кажется, что наша жизнь есть только «эксперимент познающего». Но разве философия существует только для «учеников»? Конечно, молодежи, «молодому поколению», как говаривали у нас в старину, нужно указание, нужен ответ на вопрос: что делать? Но нет необходимости обращаться с ним к Ницше, Достоевскому или гр. Толстому, т. е. к людям, выбитым из обычной жизненной колеи. Если бы у нас не было никаких иных оснований, то против них как против учителей достаточно говорит уже непрочность их собственных убеждений. Как доверить им молодую душу, если они сами не могут ручаться за завтрашний день? Гр. Толстой, например, устроивший такой торжественный апофеоз семейной жизни Левина, написал через несколько лет после «Анны Карениной» «Смерть Ивана Ильича», а потом и «Крейцерову сонату». История женитьбы и семейной жизни Левина, с одной стороны, и Ивана Ильича и Позднышева, с другой, ведь в конце концов одна и та же «история», только на иной лад рассказанная, иначе освещенная или, если хотите, оцененная. Чтоб убедиться в том, достаточно подряд прочесть «Анну Каренину» и «Крейцерову Сонату». У Левина с Кити были точно такие же отношения, как у Позднышева с его женой: в том сомнения быть не может. Семейная же жизнь Левина рекомендуется нам как образцовая, а Позднышев говорит о себе: «Мы жили как свиньи». Отчего в истории Левина пропущено то, что подчеркнуто в истории Позднышева?.. Чему может научиться ученик у такого учителя, как гр. Толстой?.. Да и вообще, человек, однажды изменивший своим убеждениям, уже не годится в учителя, ибо убеждения на срок ничего не стоят. Ведь главное их достоинство в том, что они обещают устои на всю жизнь. Убеждения не доказываются, а принимаются, если не всецело, то хоть отчасти на веру, верить же можно лишь тому, что незыблемо, что, по крайней мере на наших глазах, не подвергалось колебаниям. И настоящий учитель, человек, которого со спокойной совестью можно рекомендовать в руководители юношеству, должен прежде всего уметь дать своим ученикам как можно более «вечные» принципы, годные для всякого возраста, при всяких обстоятельствах. Такие учителя никогда не переводятся, таких учителей много, – «молодое поколение» обыкновенно к ним и обращается за поучением и наставлением, и от них получает все, что ему нужно. Даже более того, эти учителя умеют охранить своих учеников от опасной близости с писателями вроде Достоевского, Ницше или гр. Толстого. Загляните в учебники истории литературы – что сделали немцы из своего Гете! При существующих комментариях даже подростку не страшно дать в руки «Фауста». А между тем с «учительской» точки зрения разве может быть еще более вредное и безнравственное произведение? Гр. Толстой недаром в «Что такое искусство» отвергнул Гете! И в самом деле, чего нужно Фаусту? Он прожил длинную, честную, трудовую жизнь, пользуется уважением и почетом народа, к нему отовсюду стекаются ученики, которым он может внушать идеи добра и передавать те, хотя и ограниченные, но полезные познания, которые ему удалось приобрести долгими годами упорных занятий. Кажется, радоваться бы ему на свою старость, а он недоволен, заводит дела с дьяволом и продает врагу человеческого рода свою душу за Маргариту. Что это такое? Ведь, говоря простым языком, это значит: седина в бороду, а бес в ребро. Меня удивляет только, что гр. Толстой не вспомнил по поводу «Фауста» эту удивительную русскую поговорку. Его любимые собеседники, «умные мужики», наверное бы так рассудили. С их точки зрения Вагнер куда выше и нравственнее Фауста, а меж тем у Гете он представлен карикатурным глупцом, и только потому, что он, как учат Милль и Кант, держался пределов познаваемого мира и не вступал в сношения с чертями. Попробуйте применить к Фаусту кантовское правило нравственности: что вышло бы, если бы все люди поступали как Фауст, забрасывали свою почтенную и полезную ученую деятельность и на старости лет начинали влюбляться в Маргарит. А Вагнер выдержит кантовский принцип! И с точки зрения утилитарной – Милля – он выйдет правым, и Спиноза принужден будет похвалить его. Кант и Гете писали почти одновременно. Но Кант строжайшим образом воспрещал всякого рода мыслям о вечном возвращении, чертям и Маргаритам смущать свой философский покой: всем им место в умопостигаемом (или, говоря обыкновенным языком, в непостижимом) мире. Гете же звал их к себе и предоставлял Вагнерам жить по кантовской морали… По-видимому, Раскольников был прав, и точно существуют две мерки, одна для обыкновенных, другая для необыкновенных людей. Фаусты не теряют нашего уважения, хотя, несмотря на мудрые поговорки и философские учения, позволяют себе пренебрегать принятой моралью и, отвернувшись от идеальных благ, даваемых ученым кабинетом и просветительной деятельностью, ищут жизни для себя. Фауст – «эгоист»? Высшие натуры – эгоисты, и мораль самоотречения предоставлена посредственным Вагнером?