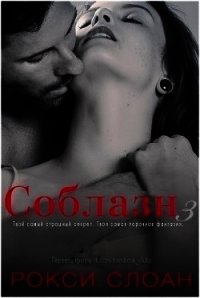Соблазн - Бодрийяр Жан (хороший книги онлайн бесплатно TXT) 📗
Следует ли отсюда заключить, что всякая попытка соблазна разрешается убийством объекта страсти, или, слегка перефразируя, что она всегда есть не что иное, как попытка свести другого с ума? Всегда ли чары, которыми опутывается другой, пагубны? Быть может, это мстительная реторсия чар, которыми он опутал вас и которые теперь обращаются против него самого? Что за игра здесь ведется — не играли в смерть? В любом случае, эта игра куда ближе к смерти, чем безмятежный обмен сексуальными удовольствиями. Соблазняя, мы всегда должны расплачиваться тем, что сами поддаемся соблазну, т. е. отрываемся от самих себя и делаемся ставкой в колдовской игре, где все подчиняется символическому правилу непосредственной и полной разделенности — то же правило определяет жертвенное отношение между людьми и богами в культурах жестокости, иначе говоря безграничного признания и разделенности насилия. Соблазн тоже элемент культуры жестокости, это ее единственная церемониальная форма, какая нам осталась, во всяком случае, это то, что помечает нашу смерть не как случайную или органическую форму, но как строго необходимую, как неизбежное следствие игрового правила: смерть остается ставкой всякого символического пакта — пакта вызова, тайны, обольщения, извращения.
Тонкие отношения связывают соблазн и извращение. Разве сам соблазн не форма совращения или искажения миропорядка? Однако из всех страстей, из всех душевных порывов перверсия, возможно, плотнее всего противостоит соблазну.
Обе страсти жестоки и безразличны к сексу.
Соблазн есть нечто такое, что завладевает всеми удовольствиями, всеми аффектами и представлениями, даже всеми грезами, чтобы переиначить их первоначальную динамику в нечто совсем другое — в игру более острую и более тонкую, ставка в которой не знает ни конца, ни начала, не совпадает ни с влечением, ни с желанием.
Если существует какой-то естественный закон пола, какой-то принцип удовольствия, тогда соблазн сводится к отрицанию этого принципа и подмене его правилом игры — произвольным правилом: в этом смысле он извращен. Безнравственность перверсии, как и соблазна, обусловлена не уходом с головой в сексуальные удовольствия вопреки всякой нравственности — она обусловлена куда более серьезным и тонким уходом от самого секса как референции и как нравственности, включая сюда и плотские удовольствия.
Игра, а не оргазм. Извращенец холоден в отношении секса. Он преображает сексуальность и секс в ритуальный вектор, в ритуально-церемониальную абстракцию, в горящую ставку знаков взамен торга желания. Всю интенсивность секса он переводит на уровень знаков в их динамичном развертывании, как Арто переводил ее на уровень театральной динамики (необузданное вторжение знаков в реальность), которая тоже есть род церемониального насилия и не может определяться как влечение — только обряду присуще насилие, только игровое правило насильственно, поскольку кладет конец системе реального: такова истинная жестокость, кровопролитие здесь ни при чем. И в этом смысле перверсия жестока.
Гипнотическую силу строю извращения приносит основанный на правиле ритуальный культ. Извращенец не преступает закон, но ускользает от него, чтобы отдаться правилу, ускользает не только от репродуктивной целесообразности, но в первую очередь от самого сексуального строя вместе с его символическим законом, ускользает, чтобы приблизиться к иной форме — ритуализованной, регламентированной, церемониальной.
Перверсивный контракт на самом деле не контракт вовсе, не договор между двумя свободными партнерами, но пакт, имеющий в виду соблюдение того или иного правила и устанавливающий дуальное отношение (как вызов), т. е. исключающий любую третью сторону (в этом его отличие от контракта) и неразложимый на индивидуальные определения. Именно благодаря такому пакту и такому дуальному отношению, благодаря этой сети чуждых закону обязательств перверсия становится, с одной стороны, неуязвимой для внешнего мира, с другой стороны — неанализируемой в терминах индивидуального бессознательного, а значит, недоступной для психоанализа. Потому что строй правила не входит в юрисдикцию психоанализа — только строй закона. Перверсия же составляет часть этой другой вселенной.
Дуальное отношение упраздняет закон обмена. Перверсивное правило упраздняет естественный закон пола. Правило произвольное, подобно игровому правилу, и не столь важно его содержание — суть дела в приложении правила, знака или системы знаков в обход сексуальной сферы (это могут быть и деньги, как у Клоссовского, обращенные в ритуальный вектор перверсии и всецело совращенные от естественного закона обмена).
Отсюда родство между обителями, тайными обществами, замками Сада и вселенной извращения. Все эти обеты, обряды, нескончаемые садовские протоколы… Культ правила — вот что их объединяет, узда правила, а вовсе не разнузданность — вот что ими разделяется. И уже в недрах этого правила извращенец (извращенная пара) спокойно может допустить все возможные социальные или сентиментальные выверты и вывихи, потому что все это затрагивает только закон (ср. изображение класса буржуазии у Гобло: позволено все — с единственным условием, чтобы в целости осталось правило класса, система произвольных знаков, определяющая его как касту). Возможны любые трансгрессии — но только не нарушение Правила.
Так соблазн и перверсия взаимно притягиваются в своем общем вызове естественному порядку. Но во многих случаях они резко отталкиваются друг от друга — мы видели это на примере «Коллекционера», где ревниво-извращенная страсть одерживает верх над соблазном. Другой пример — история «Танцовщицы», переданная Лео Шеером. Эсэсовец в концлагере заставляет еврейскую девушку станцевать ему перед смертью. Она подчиняется, ее палач захвачен, в танце она приближается к нему, выхватывает оружие и убивает. Два мира приходят в столкновение — мир эсэсовца, модель извращенной, молниеносно бьющей силы, гипнотической силы того, кто самовластно распоряжается вашей жизнью и смертью, и мир девушки, модель обольщения танцем. Из них двоих торжествует последний: соблазн вторгается в строй завороженности и заражает его обратимостью (хотя в большинстве случаев у него нет ни единого шанса туда проникнуть). Здесь мы ясно видим, что это две взаимоисключающие и смертельные друг для друга логики.
Но не следует ли, скорее, рассматривать их как единый цикл непрерывной реверсии? Коллекционерская страсть под конец подействовала на девушку вопреки всему как род соблазна (или то была лишь завороженность? но опять же: в чем разница?), как род умопомрачения, вызванного тем, что она, отчаянно пытаясь очертить и обогнуть отторгнутую вселенную перверсии, вычерчивает в то же время точку проема, пустоту, откуда странный антисоблазн действует на нее новой формой притяжения.
Какой-то соблазн извращен: истеричка пользуется средствами обольщения, чтобы от него защититься. Но и какое-то извращение соблазнительно, так как посредством и в обход перверсии ведет к обольщению.
При истерии соблазн становится непристойным. Но в некоторых формах порнографии непристойность вдруг делается соблазнительной. Насилие может соблазнять. А изнасилование? Гнусное и мерзкое могут соблазнить. Где останавливается петля перверсии? Где завершается цикл реверсии и где ее следует остановить?
Но все же остается одно глубокое различие: извращенец всеми фибрами не доверяет соблазну и стремится его кодифицировать. Он пытается зафиксировать его правила, формализовать их в тексте, провозгласить в пакте. Поступая так, он нарушает фундаментальное правило — правило тайны. Гибкий церемониал, подвижная дуэль обольщения ему не по душе — он хочет заменить их четко фиксированными церемониалом и дуэлью.
Превращая правило в нечто священное и непристойное, рассматривая его как цель, то есть как закон, он возводит неприступный оборонительный барьер: побеждает театр правила, как в истерии — театр тела. Вообще все извращенные формы соблазна объединяет то, что они выдают его тайну и предают фундаментальное правило, которое как раз в том и состоит, что не должно разглашаться.