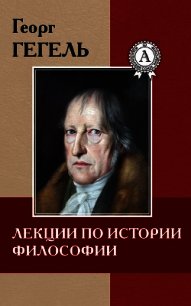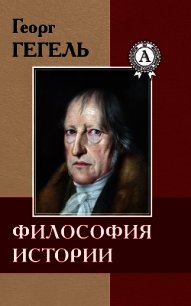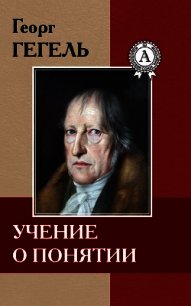Философия в систематическом изложении (сборник) - Коллектив авторов (книги онлайн читать бесплатно txt) 📗
Из этого онтологического доказательства бытия Бога, намеченного уже у Августина, а потом развитого и формулированного Ансельмом Кентерберийским, вытекла руководящая идея новейшей онтологической метафизики, как она формулирована Спинозой в классических словах первого определения его «Этики»: «Под субстанцией я понимаю то, сущность которого включает существование, или то, природа которого только может быть представлена существующей». Наряду с заменой теологической формы понятия более общей, философской, существенным шагом вперед является замена доказательства определением. Понятие, само себя доказывающее силой логической очевидности отличающих его признаков, не нуждается ни в каком доказательстве; стоит только определить его при помощи тех необходимых признаков, чтобы увидеть, что оно обладает действительностью. Эта мысль господствует и в последних, пользовавшихся большим влиянием на умы произведениях диалектической метафизики – в учении о науках Фихте и логике Гегеля, который выразил ее формулой: «тожество мышления и бытия». В действительности это тожество имеется налицо уже в платоновском доказательстве бессмертия из понятия души как основания жизни, но там оно скрыто за частным случаем. Онтологическое доказательство расширяет этот частный случай до понятия абсолютного бытия. Спиноза лишает его специфически религиозного значения и в своем определении, которым он основную мысль элеатов переносит из сферы поэтической инспирации в сферу диалектической аргументации, возвышает его в совершенно абстрактное понятие бывающего. Но и в новой своей форме понятие бытия неизбежно перерастает самого себя. В тот момент, когда абсолютное бытие познается как вполне тождественное мышлению, оно не может уже исключать многосложности вещей или относиться к ней отрицательно. Поэтому бесконечная субстанция Спинозы содержит бесконечную полноту форм бытия, развивающихся в действительности вещей. Понять это развитие не как данное, более не выводимое, а как такое же необходимое, как само бытие, – было задачей Гегеля, приведшей его к чудовищной попытке доказать, что весь мир явлений есть необходимое в себе развитие абсолютной идеи.
Несколько в стороне от этой разработки платоновских идей, хотя в конечном счете и родственное им, находится реалистическое направление диалектической метафизики, стремящееся провести мыслящее объединение понятий в более тесном общении с эмпирической действительностью. Если раньше все конечное рассматривалось сквозь призму бесконечного, то теперь, наоборот, желают из области конечных вещей подняться в царство бесконечного. Образцовым представителем этого направления является Аристотель. Его метафизика действительно следует «после физики» в том первоначальном значении слова, по которому понятия вытекают из отдельных мысленных определений нашего познания, на которые может быть разложено содержание опыта. Но затем они снова понимаются как принципы, принадлежащие сверхчувственному миру, так что все явления в конце концов опять оказываются осуществлением общих идей, отличающихся универсальной и необходимой природой. Таковы понятия материи и формы или динамики и энергии (potentia и actus, как их впоследствии окрестила схоластика), которые сами конституируют вещи именно потому, что они получаются нами из определений понятий вещей. Так как эти понятия служат формами, содержащими существенные черты явлений, то они образуют постепенный ряд, завершающийся в идее чистой формы, как высшей сверхчувственной ступени этого ряда понятий. Но именно поэтому эта чистая форма, в свою очередь, является высшей причиной, из которой в конечном счете вытекают все отдельные определения форм, или движения и дифференциации. Таким образом, и тут решающую роль бытия и небытия играют понятия, и по ту сторону чувственного мира они возводят мир сверхчувственный, который достижим лишь в понятиях. Но толчок к образованию этого мира понятий исходит все же от отдельной чувственной вещи, от «субстанции» в самом строгом смысле этого слова, как ее называет Аристотель. Таким образом, в этом своеобразном ослаблении диалектической метафизики уже скрыта тенденция к критическому способу мышления. Он отказывается конструировать мир из понятий, à priori, а стремится получить сами понятия путем исследования конкретных содержаний мира. Поэтому он отдает предпочтение логической абстракции пред метафизическим расчленением понятий. Но принципы, почерпаемые им из логической абстракции, в свою очередь, применяются как орудия диалектики, воздвигающей мир из понятий.
Это отношение особенно ясно проявляется у одного из новейших метафизиков, который по универсальности знаний может быть назван современным Аристотелем и сам охотно прибегает к аристотелевским разделениям понятий, хотя в остальном его мировоззрение отличается своеобразными чертами, коренящимися в строе идей эпохи Возрождения. Мы имеем в виду Лейбница. Аргумент, при помощи которого он пытается доказать, что его система монад и их гармония не только удовлетворительна с этической и эстетической точек зрения, но и необходима в понятиях, состоит в том положении, что сложное требует, как предпосылку, простое. Огромная сложность мировых явлений указывает на простые существа, как на первичных субстанциональных носителей этой сложности. Очевидно, что сложная природа мира явлений есть не что иное, как абстрагированное из опыта понятие. Из этого опытного понятия выводится при помощи диалектического движения мышления по принципу соотношения противоположных понятий, что простое есть истинная сущность вещей. Здесь сам собой навязывается вопрос: могло ли бы чистое мышление достигнуть такого прогресса в понятиях, если бы и этот прогресс не был заранее предначертан в опыте? И действительно, простота и сложность, как относительные определения, всюду присущи самим вещам, и диалектической метафизике приходится лишь эти свойства возвысить в абсолютное, чтобы в простом усмотреть первичное мировое основание.
III. Критическая метафизика
Эти мысли привели к последней, критической ступени метафизики, самые разнообразные предвосхищения которой мы встречаем уже у Лейбница. Из чистых понятий нельзя построить действительности – эта основная тема кантовской критики традиционной диалектической метафизики возвращается при всех отдельных идеях, которые, подобно бессмертию души, бесконечной причинности мира, бытию Бога, служили главными объектами диалектических доказательств. Правда, построенная на этом опровержении умозрительных систем критическая философия стремится не вообще упразднить метафизику, а лишь отвести ей другое место в системе знания и относительно позитивных отдельных наук. Отныне метафизика не должна возводить системы из чистых мысленных определений, и эта система не должна в качестве высшего знания возвышаться над эмпирическим, лишенным необходимого единства знанием; она должна лишь служить посредницей между ближайшим делом философии, критическим анализом источников и форм познания, и отдельными областями знания. Ее главной задачей, стало быть, будет доказать, что те общеобязательные формы, которые открыты при помощи критического анализа познавательных способностей, всюду господствуют над отдельным знанием, ибо они устанавливают те основные положения, которые, наряду со сложным содержанием опыта, нужно считать а priori необходимыми. Взаимоотношение, существующее между критической и диалектической метафизикой, проще всего определяется по положению, занимаемому и тут и там теорией познания. В диалектической метафизике теория познания занимает подчиненное место, ибо она, считается, сама нуждается в метафизическом обосновании. Критическая же метафизика не только считает теорию познания своей, так сказать, начальницей, но и руководствуется указаниями опытных наук относительно всего, в чем она может быть им полезна. Это ограничение показывает нам противоречие, существующее между критической и диалектической метафизикой, а также усилившееся, преимущественно под влиянием естественных наук и эмпирического направления в философии, стремление восстановить опыт в его правах как последний источник познания. Так как критическая метафизика, с одной стороны, находится под сильным влиянием эмпирического мышления, а с другой – под влиянием прежних априористических систем, то и область, в которой она, по общей своей тенденции, может двигаться, довольно велика; и несомненно, было бы так же односторонне измерять это направление по критической философии Канта, как, например, измерять всякую диалектическую метафизику по диалектике и учению об идеях Платона. Скорее можно сказать о Канте, что, стремясь известным образом играть роль «честного маклера» между эмпиризмом и рационализмом, он не сумел избавиться от довольно значительных следов влияния древнейшей формы диалектической метафизики, а именно метафизики Платона, подобно тому как, наоборот, в чудесном диалоге (в «Теэтете»), где Платон вплотную подходит к теории познания, уже можно найти зачатки искусно применяемого критического метода. Эта роль посредничества между эмпиризмом и рационализмом главным образом и определяет основной, наиболее важный для положения кантовской метафизики, вопрос: что в отдельных науках надлежит рассматривать как à priori необходимое и что эмпирического происхождения. Подобная постановка вопроса отнимает у диалектической метафизики всю ее огромную мощь и воистину оставляет ей лишь тень былого величия. Дело в том, что критический анализ чистых познавательных способностей привел Канта к выводу, что нормы познания, предшествующие всякому опыту, ограничиваются необходимыми при образовании математических понятий формами созерцания – пространства и времени – и (если не считать нескольких для метафизического применения почти безразличных второстепенных понятий) общими категориями субстанции и причинности. Таким образом, метафизика как натурфилософия означает для Канта не больше, как самый общий очерк абстрактной механики, включающий наиболее существенные определения понятия материи. Он исключает из метафизики все остальное содержание естествознания и, конечно, психологию. Все эти области он считает чисто эмпирическими, метафизическому рассмотрению недоступными; в них возможно только описание последовательности явлений, но отнюдь не причинное познание. Практическая часть философии, опирающейся на критический анализ чистых волевых способностей, собственно говоря, еще более тоща, чем параллельная ей теоретическая часть. Правда, общая формула категорического императива: «поступай так, чтоб максима твоей воли могла служить вместе с тем и принципом общего законодательства» – достаточно эластична и без затруднений уживается со всей рационалистической философией морали; это особенно ясно сказывается в кантовском «Метафизическом учении о праве», где снова находит себе убежище, по крайней мере в главных своих чертах, старое естественное право. Рамки, которые Кант отводит метафизике, поэтому весьма узки. Отныне она должна идти не во главе наук, а довольствоваться скромной ролью посредницы между критикой разума и эмпирическим знанием. Но, согласно известному закону о контрастах, это ограничение должно было возыметь лишь то действие, что поднявшаяся затем метафизическая волна поднялась еще выше. И в самом деле, критическая эра метафизики не надолго вытеснила свою диалектическую предшественницу, а, наоборот, новыми методами дедукции понятий лишь влила в нее новые силы.