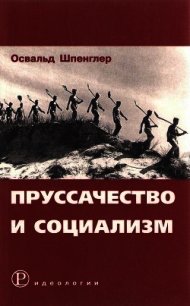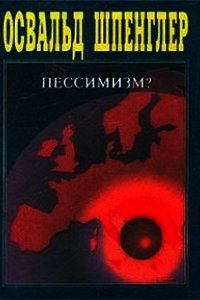Годы решений - Шпенглер Освальд (читать полную версию книги txt) 📗
Но таким же заблуждением является и вера в возможность существования одной единственной партии. Партии суть либерально-демократические формы оппозиции. Они предполагают наличие противоположной партии. Одна партия в государстве так же невозможна, как и государство в безгосударственном мире. Политическая граница — страны или убеждения — всегда отделяет друг от друга две силы. Вера в побеждающее единство — это детская болезнь всех революций, когда само время, в котором они происходят, ставит проблему размежевания. Великие кризисы истории так не разрешаются. Они стремятся вызреть, чтобы перейти к новым формам борьбы. «Тотальное государство» — итальянский лозунг, ставший модным интернациональным словом — было осуществлено еще якобинцами, а именно, во время двух лет террора. Но как только была уничтожена разложившаяся власть ancien régime и установлена диктатура, они сами разделились на жирондистов и монтаньяров [247], и первые заняли опустевшее место. Их вожди пали жертвой левых, но их последователи сделали с левыми то же самое. После термидора [248] наступило ожидание победоносного генерала. Партию можно уничтожить как организацию или бюрократию получателей окладов, но не как движение, не как духовную силу. Необходимая по природе вещей борьба перекидывается тем самым на оставшуюся партию. Ее можно отрицать или скрывать, но она налицо.
Это относится к фашизму и ко всем многочисленным движениям, возникшим по его примеру или только возникающим, например, в Америке. Здесь каждый поставлен перед неизбежным выбором. Необходимо знать, где ты стоишь, «слева» или «справа», знать твердо, иначе за тебя решит ход истории, который сильнее всех теорий и идеологических мечтаний. Примирение сегодня так же невозможно, как и во времена Гракхов.
Западный большевизм жив повсюду — кроме России. Если уничтожить его боевые организации, он сохранится в новых формах: в качестве левого крыла партии, убежденной в своей победе над ним; в качестве убеждения, относительно наличия которого в своем мышлении могут основательно заблуждаться отдельные люди и целые массы; в качестве движения, которое однажды внезапно выступит и организованных формах.
Что же означает «левая»? Лозунги прошлого столетия типа социализма, марксизма и коммунизма устарели, они уже ни о чем не говорят. Их используют, чтобы не отдавать себе отчет в том, где оказались в действительности. Но время требует ясности. «Левая» — это партия и то, что верит в партию, это либеральная форма борьбы против высшего общества, классовой борьбы с 1770 года, стремление к большинству, к движению вместе со «всеми», это количество вместо качества, стадо вместо господина. Но настоящий цезаризм всех завершающихся культур опирается на небольшое сильное меньшинство. Левая — это то, что имеет программу, это интеллектуальная, рационалистически-романтическая вера в возможность преодоления действительности посредством абстракций. Левая — это шумная агитация на улицах и в народных собраниях, искусство поразить городскую массу сильными словами и посредственными доводами: во времена Гракхов латинская проза выработала риторический стиль, который не пригоден ни для чего, кроме хитроумной риторики, которую мы обнаруживаем у Цицерона. Левая — это увлечение массами вообще в качестве основания собственной власти, воля к уравниловке, к отождествлению народа с просторабочим под презрительные взгляды на крестьянство и буржуазию.
Партия — это не просто устаревающая форма, она еще и покоится на уже устаревшей массовой идеологии, она смотрит на вещи снизу, она следует за мышлением большинства. Наконец, «левая» означает, прежде всего, недостаток уважения к собственности, хотя никакая другая раса нe имеет такого сильного инстинкта к обладанию, как германская, так как из всех исторических рас она обладает самой сильной волей. Воля к собственности является нордическим смыслом жизни. Она господствует и творит всю нашу историю от завоевательных походов полумифических королей до современной формы семьи, которая умирает, если угасает идея собственности. У кого нет такого инстинкта, тот не обладает «расой».
Великой угрозой середины нашего века является продолжение того, что хотели бы преодолеть. Это эпоха полумер и переходных состояний. Но пока это возможно, революция не завершена. Цезаризм будущего будет не переубеждать, а побеждать с помощью оружия. Лишь если это станет само собой разумеющимся, если поддержка большинства станет восприниматься в качестве возражения и будет презираться, если кто-то будет ставить массу, партию в любом смысле, все программы и идеологии ниже себя, лишь тогда революция будет преодолена. Фашизм так же подвержен опасности гракховского разделения на два фронта — левый фронт низшей городской массы и правый фронт организованной нации от крестьян и вплоть до высших слоев общества,— но они сдерживаются наполеоновской энергией одиночки.
Противоречие не снято, да оно и не может быть снято [248] и вновь проявится в тяжелых битвах диадохов [250], как только железная рука выпустит руль. Фашизм также является переходным состоянием. Он развился в городской массе как массовая партия с шумной агитацией и массовыми митингами. Ему не чужды тенденции рабочего социализма. Но пока диктатура имеет «социальное» тщеславие, утверждает, что она существует ради «рабочего», агитирует в переулках и пользуется популярностью, до тех пор она остается промежуточной формой. Цезаризм будущего борется только за власть, за империю и против партии любого вида.
Всякое идеологическое движение верит в свою окончательную истинность. Оно отрицает мысль о том, что после него история продолжится. Ему недостает цезаристского скепсиса и презрения к людям, глубокого знания о призрачности всех явлений. Творческая мысль Муссолини была значительна и приобрела международное влияние: появилась форма для борьбы с коммунизмом. Но эта форма возникла в результате подражания врагу и поэтому содержала множество опасностей. Таковые суть – революция снизу, отчасти осуществленная и поддержанная чернью, вооруженная партийная милиция — в Риме Цезаря это были банды Клодия и Милона, — склонность подчинять духовный и экономический труд руководителей труду исполнителей, поскольку содержание первого оставалось непонятным, недостаточное уважение к собственности других, смешение нации и массы. Одним словом — социалистическая идеология прошлого столетия.
Все это принадлежит прошлому. То, что предвосхищает будущее, это не существование фашизма в качестве партии, единственно лишь образ ее творца. Муссолини не является вождем партии, хотя он был вождем рабочих,— он господин своей страны. Его прообраз, Ленин, вероятно, тоже стал бы таковым, проживи он дольше. Он проявлял абсолютную бесцеремонность по отношению к своей партии и имел мужество отступить от любой идеологии. Муссолини является, прежде всего, государственным мужем, холодным и скептичным, это реалист и дипломат. Он действительно правит в одиночку. Он видит все — редкая способность абсолютного властителя. Даже Наполеон был изолирован от своего окружения. Труднейшие и необходимейшие победы, которые одерживает властитель, — не победы над врагами, а победы над своими собственными приверженцами, преторианцами или «Ras» [231], как их называли в Италии. В них проявляется прирожденный господин. Кто не понимает этого, не может или не осмеливается, тот плывет как пробка по волнам, сверху, но безвольно.
Завершенный цезаризм является диктатурой, но не диктатурой одной партии, а диктатурой одного человека, направленной против всех партий, прежде всего — против собственной партии. Любое революционное движение приходит к победе вместе с авангардом преторианцев, которые затем становятся уже ненужными и даже опасными. Подлинный господин проявляется в том, каким образом он избавляется от них: бесцеремонно, неблагодарно, имея перед глазами лишь свою цель, для которой он ищет и находит нужных людей. Противоположность этому имела место в начале Французской революции: власть никому не принадлежит, но все стремятся ею обладать. Все приказывают, но никто не подчиняется.